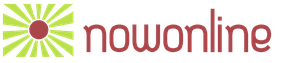Не жизнь а сказка читать полную версию. Алена Долецкая: из нерассказанного в сказках. О книге «Не жизнь, а сказка» Алёна Долецкая
О чём может рассказать первый главный редактор русского Vogue, русского Interview легендарная московская красавица и фам фаталь? О том, как выбирала духи и белый рояль? О том, как принцы пели серенады и делали подарки? Дочь знаменитого хирурга С. Я. Долецкого, внучка первого директора ТАСС Я. Г. Долецкого была и остаётся человеком, относящимся к жизни с глубокой иронией и пронзительной искренностью. Звёзды и скромные люди, закадычные друзья и заклятые подруги, гении и злодеи, настоящие мужчины и хлюпики, исторические личности и пустозвоны – все они герои новой книги Алёны Долецкой, решившейся на доверительную откровенность со своими читателями. Содержит нецензурную брань. В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.
© Алёна Долецкая, текст, оформление, 2017
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», – бесконечно просил Артём Долецкий, мой племянник.
Ему посвящаю эту книжку.
«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».
Далай ламаА. Долецкая, 1973 г.
Объяснительная записка
Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевые девочки, какаем розами.
У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже…» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», – говорю я в ответ. Не проходит номер.
Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.
Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное – что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.
Даты – моё слабое место, так что хроники века не ждите.
В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище – в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.
Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.
Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока – поехали.
Алёна Долецкая
Не жизнь, а сказка
© Алёна Долецкая, текст, оформление, 2017
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
* * *«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», – бесконечно просил Артём Долецкий, мой племянник.
Ему посвящаю эту книжку.
«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».
Далай лама
А. Долецкая, 1973 г.
Объяснительная записка
Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевые девочки, какаем розами.
У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже…» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», – говорю я в ответ. Не проходит номер.
Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.
Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное – что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.
Даты – моё слабое место, так что хроники века не ждите.
В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище – в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.
Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.
Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока – поехали.
Раз. Два. Три.
Огненный коктейль
Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово, одета ничего особенного, в уггах или кроссовках, джинсы, куртка-пальто, в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла, продавцы мне тут же:
– Please, please, ten dollars, ten dollars only!
– А что это вы по-английски? Я русская, и не парьте мне ten dollars, давайте на рубли и пополам.
– Ой, а я думал иностранка…
С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве, больше чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью, а может, тут всё не так просто? Может, там, как у Де Костера, «Пепел Клааса стучит в моем сердце?» Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать что хочет?
С Хедвиг какая история была. Живёт она себе поживает в 1900-х годах то ли в Сассексе, то ли в Саффолке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рожает леди Хедвиг Хайтон двоих детей, ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трёхметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной… И – влюбляется в прабабушку, а она, ох, – в него. Он взял и увёз Хедвиг от лорда.
Увёз в Россию, в Санкт-Петербург, потому что в то время добывал золото и серебро на Русском Севере. Прабабушка ходила в англиканскую церковь, но так и не выучила русский язык, и очень любила своего мужа. А потом они уехали в Польшу, где и родилась моя любимая бабушка, Софья Станевич.
Милая история межнациональной любви. Я чту её память, и единственный сохранившийся портрет папы с прабабушкой у меня на стене. Она совсем непохожа на классическую подсохшую английскую леди с поджатыми тонкими губами. Крупный нос, широко открытые глаза. Выдаёт прямая спина и строгий взгляд. А так – вполне бы сошла за дворянку из Саратовской губернии.
Но есть один огорчительный момент. У английской аристократии в то время был закон: если жена развелась с мужем, никакого ей наследства от совместной жизни не достанется, и титулу её тоже – до свидания. Бог с ним, с титулом, а вот родственников и фамильный особняк я бы, конечно, поискала. Да всё как-то не складывается. Вот я и думаю, может, стучится моя прабабушка, напоминает, что надо розысками заняться?
«А почему это дальние родственники меня сами не находят? – думаю. – Что за дела?! Заходите к нам сами, Хайтоны! Я вас обогрею».
«Фу-у, откуда эта самоуверенность?! – снова сама себе».
Хедвиг Хайтон и Станислав Долецкий. 1922 г.
Понятно! Взыграла во мне польская кровь. Папа ведь по паспорту был поляк, и когда родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чём они между собой говорят, – всегда переходили на польский. К ним по подписке даже приходил юмористический журнал Szpilki, родители его читали и всегда вдвоём хохотали.
Но совсем не всегда моим предкам – гордым полякам – приходилось весело. Мягко выражаясь.
Дедушка, папин папа, Яков Генрихович Долецкий родился в Варшаве, прямо со школьной скамьи, в шестнадцать лет, вступил в Социал-демократическую партию Литвы и Польши. С 1917 года – член ВЦИК и в 1922-м возглавил информагентство РОСТА, которое потом стало называться ТАСС. Пережил до того не один арест и не одну ссылку и в целом всю свою сознательную жизнь посвятил строительству самого счастливого строя на Земле. После звонка своего друга в 1937-м («Яков, арестованы наши друзья. Похоже, ты следующий») он оставил два письма, моему отцу и Сталину, и застрелился. Через сорок минут после того, как дед покончил с собой, пришли энкавэдэшники и забрали все письма.
Бабушка, папина мама, Софья Станиславовна Станевич, дочь того самого безбашенного польского дворянина-разлучника, тоже служила делу революции. В 1918 году вышла замуж за Якова и тоже строила с ним светлое будущее нашей страны. Но когда в середине 30-х годов дед, к тому времени уже руководитель ТАСС, стал ездить на работу в Кремль на роллс-ройсе, она сказала: «Я не хочу больше с тобой жить. Ты на чём домой приехал? Ясно. Ты предал идеи революции».
Не жизнь, а сказка
Алёна Долецкая
О чём может рассказать первый главный редактор русского Vogue, русского Interview легендарная московская красавица и фам фаталь? О том, как выбирала духи и белый рояль? О том, как принцы пели серенады и делали подарки? Дочь знаменитого хирурга С. Я. Долецкого, внучка первого директора ТАСС Я. Г. Долецкого была и остаётся человеком, относящимся к жизни с глубокой иронией и пронзительной искренностью. Звёзды и скромные люди, закадычные друзья и заклятые подруги, гении и злодеи, настоящие мужчины и хлюпики, исторические личности и пустозвоны – все они герои новой книги Алёны Долецкой, решившейся на доверительную откровенность со своими читателями.
Содержит нецензурную брань.
В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.
Алёна Долецкая
Не жизнь, а сказка
© Алёна Долецкая, текст, оформление, 2017
© ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
«Расскажи, ну расскажи ещё какую-нибудь историю», – бесконечно просил Артём Долецкий, мой племянник.
Ему посвящаю эту книжку.
«Когда человеку кажется, что всё идёт наперекосяк, в его жизнь пытается войти нечто чудесное».
Далай лама
А. Долецкая, 1973 г.
Объяснительная записка
Никакую книгу я писать не собиралась. Ни художественную, ни мемуарную, ни публицистическую. Кто я такая? Девочка из интеллигентной московской семьи, с классическим университетским образованием и недурным воспитанием. Довольно везучая. Успеха не ждала, просто на него работала. И хотя трудилась всё больше в высших, так сказать, эшелонах культуры и бизнеса, уверяю вас, не все мы, глянцевые девочки, какаем розами.
У меня есть любимое занятие: сидеть на веранде с друзьями и «травить байки». Летом там тенисто и прохладно, падают шишки с сосен, белки хрустят сухарями и семечками, сойки суетятся у кормушек. Мы гоняем чёрные, зелёные и белые чаи с моим клубничным или земляничным вареньем, а иногда и с чем покрепче, вспоминаем истории из жизни. Мои истории все очень любят. Обязательно кто-то говорит: «Алён, ну расскажи ту историю, ну ещё разочек». У друзей и родных есть свои любимые байки. Иногда они перебивают: «Нет-нет-нет, он сначала вошёл, а потом уже…» Они исправляют цвет волос, который был у кого-то из персонажей, год события, название духов, детали нижнего белья. «Слушай, сама расскажи, ты уже лучше эту историю знаешь, чем я», – говорю я в ответ. Не проходит номер.
Эти сказки-байки благодаря моим друзьям обросли первородными запахами и оттенками. Ритуал стал частью дачной магии.
Неожиданно я поняла, что этих историй собралось много, а главное – что у меня появилась возможность не рассказывать в сорок пятый раз одну и ту же сказку-байку. И получше вспомнить полузабытые. Совсем не всегда разухабисто смешные, иногда страшные и грустные, но зато настоящие. Я решила их записать.
Даты – моё слабое место, так что хроники века не ждите.
В народных сказках, которые я читаю до сих пор, помимо разнообразной мудрости, всегда есть превращения и преображения. Сидела лягушкой в углу, ударилась оземь и обернулась Василисой Премудрой. Тыква превращается в карету, чудище – в принца. Вот и я вам расскажу про свои превращения, иногда волшебные, иногда не очень. Но зато никакой лжи, никаких намёков. Всё по правде.
Не бойтесь, не всю правду, конечно. Да и не всё вспомнила. Сказки ведь чем хороши? Превращения бесконечны, и сказка рождает сказку.
Так что, кто знает, может, и будет продолжение. А пока – поехали.
Раз. Два. Три.
Огненный коктейль
Иду я с друзьями на антикварный рынок в Измайлово, одета ничего особенного, в уггах или кроссовках, джинсы, куртка-пальто, в чем на рынок-то ездить? И только вопьюсь глазами в старинные русские рюмочки резного стекла, продавцы мне тут же:
– Please, please, ten dollars, ten dollars only!
– А что это вы по-английски? Я русская, и не парьте мне ten dollars, давайте на рубли и пополам.
– Ой, а я думал иностранка…
С чего бы я иностранка-то? Родилась и выросла в Москве, больше чем на месяц вообще из России не отлучалась. Но ласкаю себя мыслью, а может, тут всё не так просто? Может, там, как у Де Костера, «Пепел Клааса стучит в моем сердце?» Может, моя английская прабабушка Хедвиг Хайтон сказать что хочет?
С Хедвиг какая история была. Живёт она себе поживает в 1900-х годах то ли в Сассексе, то ли в Саффолке со своим мужем, лордом Хайтоном. Рожает леди Хедвиг Хайтон двоих детей, ухаживает за розами, следит за регулярным цветением трёхметровых рододендронов и принимает вечером друзей мужа. Заезжает к ним как-то погостить коллега по бизнесу лорда Хайтона, успешный предприниматель-золотодобытчик, поляк дворянских кровей Станислав Станевич. Как говорит семейное предание, красоты, обаяния, яркости и безбашенности необыкновенной… И – влюбляется в прабабушку, а она, ох, – в него. Он взял и увёз Хедвиг от лорда.
Увёз в Россию, в Санкт-Петербург, потому что в то время добывал золото и серебро на Русском Севере. Прабабушка ходила в англиканскую церковь, но так и не выучила русский язык, и очень любила своего мужа. А потом они уехали в Польшу, где и родилась моя любимая бабушка, Софья Станевич.
Милая история межнациональной любви. Я чту её память, и единственный сохранившийся портрет папы с прабабушкой у меня на стене. Она совсем непохожа на классическую подсохшую английскую леди с поджатыми тонкими губами. Крупный нос, широко открытые глаза. Выдаёт прямая спина и строгий взгляд. А так – вполне бы сошла за дворянку из Саратовской губернии.
Но есть один огорчительный момент. У английской аристократии в то время был закон: если жена развелась с мужем, никакого ей наследства от совместной жизни не достанется, и титулу её тоже – до свидания. Бог с ним, с титулом, а вот родственников и фамильный особняк я бы, конечно, поискала. Да всё как-то не складывается. Вот я и думаю, может, стучится моя прабабушка, напоминает, что надо розысками заняться?
«А почему это дальние родственники меня сами не находят? – думаю. – Что за дела?! Заходите к нам сами, Хайтоны! Я вас обогрею».
«Фу-у, откуда эта самоуверенность?! – снова сама себе».
Хедвиг Хайтон и Станислав Долецкий. 1922 г.
Понятно! Взыграла во мне польская кровь. Папа ведь по паспорту был поляк, и когда родители хотели, чтобы мы с братом не понимали, о чём они между собой говорят, – всегда переходили на польский. К ним по подписке даже приходил юмористический журнал Szpilki, родители его читали и всегда вдвоём хохотали.
Но совсем не всегда моим предкам – гордым полякам – приходилось весело. Мягко выражаясь.
Дедушка, папин папа, Яков Генрихович Долецкий родился в Варшаве, прямо со школьной скамьи, в шестнадцать лет, вступил в Социал-демократическую партию Литвы и Польши. С 1917 года – член ВЦИК и в 1922-м возглавил информагентство РОСТА, которое потом стало называться ТАСС. Пережил до того не один арест и не одну ссылку и в целом всю свою сознательную жизнь посвятил строительству самого счастливого строя на Земле. После звонка своего друга в 1937-м («Яков, арестованы наши друзья. Похоже, ты следующий») он оставил два письма, моему отцу и Сталину, и застрелился. Через сорок минут после того, как дед покончил с собой, пришли
Страница 2 из 16
энкавэдэшники и забрали все письма.
Бабушка, папина мама, Софья Станиславовна Станевич, дочь того самого безбашенного польского дворянина-разлучника, тоже служила делу революции. В 1918 году вышла замуж за Якова и тоже строила с ним светлое будущее нашей страны. Но когда в середине 30-х годов дед, к тому времени уже руководитель ТАСС, стал ездить на работу в Кремль на роллс-ройсе, она сказала: «Я не хочу больше с тобой жить. Ты на чём домой приехал? Ясно. Ты предал идеи революции».
Яков Долецкий, 1931 г.
Забрав своего сына, то есть моего папу, они переехали жить на Петровку, а дед остался жить в Доме на набережной.
Человек она была тонкий, образованный, блистательно играла на фортепиано, свободно владела шестью языками. Бабушка работала у Лазаря Кагановича, наркома путей сообщения, и, похоже, занималась для молодой России международным промшпионажем. Строительство железных дорог и прочая инженерия требовали серьёзных знаний и опыта, который уже был в европейских странах. Однажды за обсуждением вопросов развития железнодорожной сети Софья Станиславовна плеснула Кагановичу чернилами в лицо (видимо, проявил себя как непорядочный или как монстр, каким он и был по сути, а может, и приставал). И, разумеется, была тут же уволена. После этого – зарабатывала частными уроками языков и музыки.
В 37-м, вскоре после смерти деда, её арестовали за «распространение антисоветских анекдотов», чего никогда, разумеется, с ней не происходило и произойти не могло. Семнадцатилетнего отца вызвали на Лубянку и сказали: «Твоя мама утверждает, что никогда анекдотов не рассказывала». И отец говорит: «Клянусь вам здоровьем, я с мамой прожил всю жизнь – она верный и чистый человек, и никаких анекдотов в нашем доме не было». Тогда энкавэдэшники показали Софье Станиславовне, кто у них сидит на допросе, и сказали: «Видите, там ваш сын. Либо признайтесь, либо мы сами с ним разберёмся». Она всё поняла и без единой паузы сказала: «Виновата, рассказывала». Она провела в ГУЛАГе семнадцать лет, прошла лагеря от Мурманска до Средней Азии.
В начале 1950-х она вернулась в Москву. И однажды попросила отца поехать с ней на Ленинские горы – вдвоём, без свидетелей.
– Я должна тебе сказать одну страшную вещь. Сталин – преступник.
Эта история меня поразила вовсе не её откровением про Сталина, но её горячим желанием искренне признаться отцу в этом – где? – на Ленинских Горах, чтобы никто не мог их услышать. Такие были времена.
Прошло с тех пор больше полувека. Мы общаемся в фейсбуках, твиттерах, телеграммах и прочих WhatsApp. Но недавно я начала замечать, что, когда люди хотят поговорить о чем-то серьёзном и важном, они или выключают телефон, или куда-то его уносят. Выходит, пройдя тоталитаризм, заглушки и запреты, мы возвращаемся к другому всемирному колпаку www, под которым нас все видят и слышат. Мне-то скрывать нечего, но если я иду первый раз обедать с человеком, которого лично не знаю, к вечеру фейсбук сообщает мне, что «вы можете его знать». Большой Брат следит за тобой? Кто ты, брат?
Софья Станевич и Алёна Долецкая, 1956 г.
Не знаю всех особенностей польского характера, но я точно обязана этой своей бабушке за одну загадочную, хотя и простую вещь. Вскоре после моего рождения папе предложили возглавить кафедру детской хирургии в Ленинграде, и родителям пришлось оставить меня в Москве на руках у бабушки. И тут меня накрыла какая-то неведомая и опасная болезнь сердца. Имеющиеся врачи не понимали, что за патология такая, и опустили руки. Бабушка Софья уложила меня в постель на три месяца без разрешения прыгать-бегать-носиться и – чтобы я не порвала на части окружающий мир бешеной детской энергией – легла со мной рядом на всё время, читала книжки и кормила. Вернула меня в строй здоровым ребёнком, дождалась возвращения родителей в Москву и ушла в мир иной. Мне было три года. Мудрая София, жду притока твоей мудрости в мою жизнь.
Если уж заговорили о мудрости, то фамилия Долецкий – это всего лишь придуманный партийный псевдоним моего деда, который на самом деле был Я. Г. Фенигштейн. Полагаю, польский еврей. И вот уже много лет я ворчу, что маловато мне досталось еврейской крови. С цифрами я на «вы», считаю медленно и плохо, пять шагов наперёд просчитываю с трудом, зато компенсирую мужьями, которые почти все евреи.
Александра Даниэль-Бек, 1920 г.
Владимир Даниэль-Бек, 1949 г.
Родители иногда друг друга поддевали. Когда папа в порыве педагогических усилий начинал нам с братом читать нотации, мама, Кира Владимировна Даниэль-Бек, говорила: «Стасик, ну оставь, пожалуйста, этот свой польский гонор». Или когда мы долго и бестолково обсуждали какой-нибудь нелепый вопрос, типа кто будет собирать и натирать лыжи, мама гордо отмалчивалась, и папа ей говорил: «Кирочка, ты не хочешь подать голос из своего замка князей Беков и всё-таки с нами поговорить?»
Мама была не очень похожа на настоящую армянку (ну разве что сильно вьющиеся волосы), внешне она была копией своей мамы Александры Ивановны, которая служила литературным секретарём Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Бабушка была русская, но родом из коми-зырян, с чуть-чуть миндалевидными небольшими глазами. Поставить рядом бабушкин, мамин и мой профиль – почти одно лицо. Я не застала маминых родителей, они умерли очень рано, а я родилась поздно. Мамин отец, Владимир Исаевич Даниэль-Бек был московским юристом, статным мужчиной, с выдающимся носом с горбинкой, чётко очерченным ртом и густыми волосами «соль-с-перцем».
А вот отец деда, мой прадедушка – гордость семьи и не только, – достоин короткого отступления.
Как-то раз, уже в зрелом возрасте, году в 2015-м, я приняла приглашение близкого друга Рубена Варданяна и отправилась в Карабах. Время было уже мирное, Степанакерт превратился в ухоженный светлый город с парками и отелями. В один из дней нашей поездки Рубен устроил большой ужин в знаменитой Шуше, где была одна из самых тяжёлых битв Карабахской войны. В Шуше есть разлом между горами, место невероятной красоты, где можно сидеть часами, смотреть в расщелину и на разлетающиеся горы, покрытые изумрудной зеленью как бархатом, и думать, мечтать, вспоминать. Неподалёку от этого магического места, посреди огромной сосновой рощи, накрыли стол человек на сто, построили сцену, где упоительно пели «Дети Арцаха», ребята от пяти до двадцати лет.
Кира Даниэль-Бек, 1940 г.
Станислав Долецкий, 1985 г.
Блюда на столе описывать – гиблое дело, изойдемся слюной. Домашние сыры всех сортов, баклажановая долма, бозартма, пряные травы и овощи, цыплята… Взрослые беседовали. Когда пели дети, все умолкали и роняли слёзы умиления и снова, прерываясь на короткие, но содержательные тосты, болтали. И тут встала невысокая, очень приятная женщина лет сорока, подняла бокал и сказала: «Вы знаете, у нас сегодня за столом правнучка человека, день рождения которого мы празднуем каждый год в нашей бывшей Императорской военной академии. Даниэль Бек-Пирумян – величайший полководец, человек, благодаря которому мы сохранили Армению. Он поднял народное войско, когда военные сдались, сказав, что мы не выдержим атак турок. Он сказал: «Не быть этому». Сардарапатское сражение никогда не будет забыто, но сегодня важнее,
Страница 3 из 16
что его правнучка оказалась среди нас». Слова благодарности я произносила едва-едва, не давали слёзы. Оказалось, что эта женщина – заслуженный воин, министр обороны Карабаха.
Даниэль Бек-Пирумян, 1919 г.
Тогда же я узнала, что «бек» означает княжеский титул, приставляемый к имени, которое носили только мужчины княжеских родов в Армении, в Арцахе. Получается, что мама носила мужскую фамилию. Странно, но красиво. Скорее всего, Даниэль имя прадеда, «бек» приставка, а фамилия Пирумян.
Однажды в Париже я зашла на кладбище Пер-Лашез и увидела могилу, на которой было написано: «С. А. Даниэль-Бек-Шукшинский, умер в 1931 году, младший офицер армии, бывший пристав Государственной думы». Подумала: сколько же наших Даниэль-Беков по всему миру?
Буду искать. Главное, чтобы хватило армянского темперамента и русского терпения.
Фирменный шов
Ты сидишь передо мной у своего старинного, немецкой работы бюро с секретными ящичками. Пишешь. Сорокапятилетний, стройный, сногсшибательный. А я, малявка, тебя спрашиваю: «Пап, а как бы ты хотел умереть?» А ты отвечаешь, не отрываясь от бумаг: «Быстро, не больно, в Серебряном Бору». Ты любил туда уезжать на выходные в Дом творчества Большого театра.
Плавал там на байдарке, гулял с друзьями. Ты любил Большой (потому что пел там мальчиком в хоре?), любил театры, консерваторию, знал актёров, музыкантов и со многими дружил.
Прошло лет тридцать с лишним, я уже моталась по миру, делала проекты в Москве, а ты вдруг звонишь мне из загорода и говоришь: «Детка, завтра в Большом зале играет Володя Крайнев. Рахманинов, Шопен. Красота! Давай, не откладывая, быстренько сгоняй на улицу Герцена, зайди к Захарову (Владимир Захаров – тогда всемогущий директор БЗ Консерватории). У него для нас два билета. Мы давно никуда не выбирались вместе».
– Ура, папуль!
Я съездила на Герцена, забрала билеты. Они у меня потом долго лежали в сумочке. Ты умер на следующий день. Быстро. Не больно. В Серебряном Бору. Ровно через десять лет после мамы. День в день.
Давным-давно, когда ты водил меня маленькую в Консерваторию, мы слушали Шопена. Не помню имени пианиста, да и неважно. Он мне тогда ужасно не понравился – монотонно и скучно бил по клавишам. В антракте я начала нудить: «Пап, может, домой, а?» А ты мне: «Деточка, просто он играет Шопена как пионерские марши. Значит, ещё не налюбился, не настрадался».
Я хотела стать врачом-хирургом, как ты и мама. Ты – самый молодой член-корреспондент Академии медицинских наук, знаменитый на весь Советский Союз детский хирург Станислав Долецкий, золотые руки, тысячи спасённых детей, толпы навсегда благодарных родителей, автор десятка книг, первый русский хирург – член английской Королевской академии детских хирургов. Одно твоё прикосновение успокаивало капризных орущих детей.
Недавно один осматривавший меня врач сказал:
– Какой у вас необычный и элегантный шов. Был аппендицит? За границей делали?
– Это мне папа сам сделал.
Он так шёпотом:
– Этого. Не может. Быть. Своих не оперируют.
Когда меня привезли в твою Русаковскую клинику (ныне Свято-Владимирская), сбежались все открыв рты: «Свою будет резать? Родную?» А потом приехала мама. Ты её не пустил в операционную. Но как только заклеил свой фирменный шов пластырем, выдохнул: «Ну, теперь пускайте». Ох, я помню, досталось тебе от мамы. Конечно, сейчас бикини носят уже пониже, так что иногда твой шов виден, но, по-моему, это даже сексуально.
Так вот, хотела стать врачом. Плюнула на свои последние летние школьные каникулы, устроилась нянечкой в отделение, которое ты возглавлял. С твоего, кстати, разрешения! Мыла операционные, палаты, полы и койки, ухаживала за больными. Посидеть на приёме было сплошное удовольствие. Мамаши таяли в твоём присутствии на глазах, как сахарный песок в горячем чае. А дети вообще забывали, что дядя в белом халате – чудище и мучитель. Смеялись беззубыми ртами и сами показывали тебе, где болит.
Станислав Долецкий, 1982 г.
Ну, я и решила самоволкой пойти посмотреть, как ты оперируешь. Ты иногда устраивал показательные операции для аспирантов, которые приезжали из разных медвузов страны. Оперировал мальчика, за которым я в палате ухаживала. Мне, конечно, хотелось знать, как у него все пройдёт. Кажется, там была небольшая опухоль рядом с лёгким. Ты начал оперировать, подробно комментируя каждый свой шаг. «Проходим сюда, разрез сделаем именно здесь, а потом на цыпочках идём ниже, видите?» В каждом движении лёгкость, изящество и безукоризненная точность. Полная концентрация, и никакого ощущения тяжести, страха или напряжения. «Сейчас я вот тут специально делаю небольшой разрез, всё-таки он совсем ещё молодой мальчик, не будем его распахивать, а подберёмся к опухоли слева». Ни одного лишнего слова. Все только по делу.
Хотя на всех были марлевые маски, я знаю: аспиранты и врачи слушали и смотрели открыв рты. В какой-то момент ты поднял глаза, и наши взгляды встретились. Резко переключив интонацию с бархатно-лекторской на железно-командную, говоришь:
– Будьте любезны, покиньте операционную.
Все поворачиваются в мою сторону, я тоже поворачиваюсь, даже не подозревая, что эти слова адресованы мне. Видя это, ты добавляешь:
– Алёна, я обращаюсь к вам.
Вот эти «Алёна» и «к вам» было как скальпелем без наркоза. На ватных ногах выхожу из операционной. Голова пухнет: ты же сам пустил меня к себе в отделение, я здесь с семи утра выполняю самую грязную работу, я же собралась стать хирургом, почему же я не могу посмотреть, как ты оперируешь?! Через час меня находят в отделении: «Станислав Яковлевич вызывает вас к себе».
– Я разрешал тебе присутствовать на операции?
– Мы же, я же…
– Ещё раз задаю тебе вопрос.
– Ну, пап…
– Запомни раз и навсегда: никогда без моего разрешения не смей переступать порог операционной. Это не обсуждается. До свидания.
А вечером вы с мамой на меня налетели: «Ты что?! Какая ещё хирургия? Есть прекрасные офтальмология, косметология». Вы мне долбили весь вечер, что это не женская профессия, а с моими эмоциями и нервами я совсем не подхожу для хирургии. Лишь однажды ты обмолвился, что профессия врача – это ответственность, равной которой нет. Каждый день ты сталкиваешься с ситуациями, где от твоей компетенции зависит человеческая жизнь. И есть только два варианта развития сюжета: или ты будешь до конца дней разбираться со своей виной и собственной совестью, или превратишься в законченного циника. «А я не хочу, деточка, чтобы ты превращалась в циника».
Потом мы ругались. Потом мирились. Потом, как это было принято в нашей семье, собрали семейный совет, куда входили твои ближайшие друзья: Юра Никулин, Витя Монюков, Боря Поюровский, Эдик Радзинский, Володя Высоцкий, Саша Митта. И на повестку дня был вынесен единственный вопрос: «У нас проблема. Алёна хочет идти в медицинский на хирурга, а мы с Кирочкой категорически против». И тут дядя Юра Никулин сказал: «Вы что, дорогие? Ну что вы морочите себе голову? Она же чистый гуманитарий! Вы что, не видите?» И я пошла в МГУ на филологический.
За что бесконечно вам всем благодарна.
Я редко тебя о чем-либо
Страница 4 из 16
просила, а клянчить подарки было гарантией, что их не получишь никогда. Попрошайничество ты на дух не выносил. Но тут ты поехал в Лондон и привёз мне роликовые коньки, мою мечту. Дело было в сентябре. И ты их прятал у себя в шкафу до самого моего дня рождения, 10 января. А мне так хотелось в Лужниках на них поездить с мальчишками по хорошей осенней погоде. Я же их все равно сразу нашла и четыре месяца слюной исходила. Зачем их было ныкать-то?
Воспитывал ты меня, конечно, в спартанском стиле. Со всех сторон я только и слышала, как Стасик обожает свою дочь, а дома дело обстояло сурово. Андрюша, мой старший брат, положительный, отличник, послушный, молчаливый, – мамин сын. А со мной всё время что-то приключалось. То из пионерлагеря сбежала, то три школьных дневника обнаружилось (один для папы, другой для мамы, третий для реальности, которую нельзя было никому показывать), то мальчики всякие звонят по сто раз в день. В общем, проблемный ребёнок. Я понимаю – со мной, наверное, было нелегко.
Но моя любимая история про твои педагогические усилия – про скрепки. Ты послал меня в канцелярский магазин купить скрепки. В канцелярский так в канцелярский. Тем более по дороге я успеваю заскочить в телефон-автомат позвонить своему мальчику для личного разговора. Потом сломя голову в магазин и домой. Одна нога здесь, другая там. Довольная, вручаю тебе коробку. Ты разворачиваешь бумагу. Замираешь.
– Алёна, что это?
– Как что, пап? Кнопки.
– Тот факт, что ты не в состоянии запомнить поручение отца, свидетельствует только об одном: ты катишься по наклонной плоскости.
Кроме «наклонной плоскости» мне предназначались ещё два пожизненных приговора: «Все это – звенья одной цепи» и «Ты абсолютно потеряла фактор времени». Как бы мне хотелось его снова потерять!
Знаешь, ты задал планку, на которую мы, все Долецкие, равняемся до сих пор. И не на твою хирургическую славу, профессорство и членства. А на остальное – прямая спина, кайф от того, что делаешь, внутренний стержень, порядочность, врождённый стиль, любовь ко всему изящному. Всё, что стало у нас фамильным. Родовым. Кстати, я так никогда и не сменила свою, в смысле твою, фамилию. Хотя возможности были. И не раз!
А с фамилией что вышло. Маму звали Кира Владимировна Даниэль-Бек. Её дедушка, князь Даниэль Бек-Пирумян, герой армянского народа, возглавлял войско во время войны с турками. В Армении его чтут до сих пор, а в Сардарападе висит огромный его портрет и сабля вся в драгоценных каменьях. Мне очень нравилась мамина фамилия и особенно её подпись: такое плотное Даниэль и выскакивающее элегантным зигзагом Бек. Мне исполнилось шестнадцать, и мы с мамой пошли оформлять мне паспорт. Как всегда, всё самое важное – с мамой, похожей на Грету Гарбо, умной, как Мария Кюри, и застенчивой, как я даже не знаю кто.
Паспортистка, забитая скучной работой, устало спрашивает:
– Так, девушка-а-а-а-ай, какую вы берете фамилию? Матери? Отца?
– Я беру мамину, Даниэль-Бек.
– Ага. А как она у нас тут пишется-то?
Берёт очки.
– В одно слово?
Тут мама мне ошарашенно: «Что ты делаешь?! Ни в коем случае! В этой фамилии все делают минимум по четыре ошибки. Вместо «э» пишут «е», чёрточку забывают, «б» пишут с маленькой. Умоляю, зачем тебе это надо? Даже не думай – ещё не хватало мучиться всю жизнь, как мне».
Паспортистка, накаляясь и теряя терпение, слушает наши препирательства у её окошка. И тут мама предъявляет последний коронный аргумент:
– И вообще. Ты подумала, что мы скажем папе?
Решение было принято.
Вместе с твоей фамилией мне достался в наследство твой низкий болевой порог: все женщины своими ногами из врачебных кабинетов выходят, а я – чуть что – падаю в обморок, и потом меня долго откачивают. А ведь кто поверит, что такая чувствительная! И этот же болевой порог в душе. От чужой непорядочности, подлости, толстокожести, лицемерия, вранья. Хотя, пап, я не жалуюсь – энергии хватает, замыслов и планов навалом, жизнь интересная невероятно. Вот только всё никак не брошу курить.
Помнишь, как ты меня учил курить в пятнадцать лет?
Мама курила. Курила шикарно, как всё, что она делала. Без позы – ни лишнего жеста, ни лишних слов. Всё значительно и красиво: профиль, взгляд, рука с дымящейся папиросой «Беломорканал». Конечно, мне хотелось подражать ей во всём, и я закурила. Ты ничего не замечал. Но однажды ты призвал меня к себе в кабинет и сказал:
– Деточка, у нашей мамы, лучшей мамочки на свете, есть одна плохая черта – она курит. И я очень не хочу, чтобы эту привычку ты у неё переняла. И вот какое я принял решение. Сейчас я возьму мамины папиросы, и мы вместе просто попробуем, ты поймёшь, какая это гадость, и на всю жизнь эту тему закроем.
Тогда ты закурил первым. Ужасно смешно, как это делают некурящие люди, неправильно зажигая тут же гаснущие спички, обжигаясь пламенем. Наконец папироса задымилась, ты затянулся для правильности примера и начал страшно кашлять. До слёз!
– Боже, папочка, зачем?
– Нет, ты должна попробовать.
Я сдаюсь, затягиваюсь, выдыхаю дым. Без кашля и слёз, а главное – совершенно легально.
Ты с удивлением:
– Ну как?
– Да, пап, противно. Я всё поняла – это действительно очень плохая привычка.
И на этом мы тему закрыли на ближайшие лет десять.
К моим возлюбленным и мужьям, будем честны, ты не испытывал особой приязни. На первое бракосочетание ты и вовсе не собирался идти, пока тебя не устыдили Никулины. Так исторически сложилось, что почти все мои мужья были евреями. «Деточка, у тебя какая-то тяжёлая форма юдофилии», – говорил ты каждый раз, когда я порывалась представить тебе своего нового избранника. На это я тебе неизменно напоминала, что настоящая фамилия моего дедушки, твоего папы, была Фенигштейн. «Он был немец!» – слышала я один и тот же ответ. Ну да, конечно, щас!
Когда происходили неизбежные церемонии знакомства с моими поклонниками, ты был напряжён и рассеянно снисходителен. Ты всё считал меня своей маленькой деточкой, которая в очередной раз шалит и за которую ты несёшь ответственность. Я знаю, так бывает у сильных отцов, но в какой-то момент эта твоя ответственность меня стала давить. И я пошла на разговор, один на один.
«Папа, я давно уехала из вашего дома и живу своей жизнью, в своей квартире, на деньги, которые сама зарабатываю, с человеком, которого люблю. Пойми это и не обижайся, но так больше нельзя». Там и покруче были выражения, конечно, но, поверь, я тогда старалась выбирать слова, чтобы не ранить тебя слишком тяжело. Мы же оба не выносим боли! Ты молча выслушал и не захотел больше выяснять отношения и говорить что-то в своё оправдание. Всё было и так понятно: той Алёны, которая была твоей «деточкой», больше не существовало. Перед тобой сидела двадцатипятилетняя женщина со своей личной жизнью и своим характером. И просила об одном: отпустить её.
К этому времени, невзирая на написание кандидатской диссертации и переводы английской литературы, у меня вдруг проснулся кулинарный талант, которым наша обожаемая мама не была наделена совсем. Ты был рад этому моему дару и взял за привычку появляться у меня дома как снег на голову. Конечно, как человек безупречно воспитанный,
Страница 5 из 16
ты предварительно звонил:
– Детуль, у меня есть немного времени перед учёным советом. Что у тебя сегодня на обед?
– Рулет из говядины с лисичками.
– А супчик?
– Куриный бульон с бородинскими тостиками.
– Прекрасно, буду через полчаса.
В этот день я только-только прибежала со своей лекции. И думаю, дай выкурю сигаретку до твоего прихода. Ты же не предполагал, что я курю. Я скрывала от тебя это много лет. И тут раздался звонок в дверь. Я подумала, что для тебя рано, что это, наверное, курьер. Открываю дверь, а это ты стоишь с огромным ящиком мандаринов от благодарных пациентов из Грузии. Судорожно бросаю сигарету куда-то в глубь квартиры, не думая, что загорится ковёр или вспыхнет библиотека. Ты всё заметил. И сухо так:
– Добрый день!
А потом, без паузы:
– Всего доброго.
Шваркнул дверью перед моим носом и с этими же мандаринами гордо удалился. Хоть бы бросил их мне под ноги, что ли?! Нет, так с ними и ушёл. Очень в твоём стиле.
Ты часто ездил на конгрессы и симпозиумы в разные столицы мира. И, похоже, тебе всегда хватало этих трёх-пяти-семи командировочных дней. Через неделю после возвращения ты уже натягивал на штатив экран, заряжал проектор, и начиналось слайд-шоу, на которое собирались все друзья. И эти твои рассказы: где был, что видел, с кем встречался, что ели и вообще как всё было. Мы, конечно, спрашивали про заграничную медицину: а какие у них операционные, а персонал, а аппаратура? Эти вопросы повергали тебя в уныние, повисали неловкие паузы: «Знаете, родные, мы здесь живём в первобытно-общинном строе». При этом ты страдал не за себя! Тебе просто было больно и стыдно за всю советскую систему здравоохранения, за науку. Тут же ты добавлял: «Но, когда включаются наши руки, они умолкают». Имея в виду, конечно, не только руки, но и мозги. Потому что хирургия – это не только «искусство кройки и шитья», но и стратегия и тактика, знания и умение просчитать многое наперёд.
Если у нас дома угощали твоими «слайд-шоу», то Никулины, возвращаясь с гастролей, устраивали огромные вкуснейшие столы, ставили привезённую музыку (ух, этот первый Jesus Christ Superstar и The Beatles White Album в наушниках, которые мы рвали друг у друга из рук!). Помнишь вечер после их турне по Австралии? И мои первые джинсы Levi’s, заботливо подобранные для меня тётей Таней Никулиной, и длинные хипповые юбки, и уморительные рассказы, и хохот, такой, что до слёз, и кто-то не выдерживал и сползал со стула на пол. И во всём этом не было ни капли зависти или страдания, что мы тут, а не там, что у кого-то всё, а у нас ничего. Не было никакого ощущения изолированности или провинциальности, хотя по западным стандартам мы жили, наверное, довольно скромно.
А тебя за границей вообще принимали за своего. Сам рассказывал, как ты в Германии шёл по очередной Фридрихштрассе, насвистывал что-то из «Серенады солнечной долины», и какой-то немец оглянулся и с непередаваемым отвращением почти выплюнул тебе в лицо: «Amerikaner». Мы ужасно смеялись.
Как и многие дети, в поисках чего-то запретного я шарила по родительским шкафам. Один раз нащупала в платяном шкафу книги. Это были самиздатские копии Авторханова и Солженицына. Бессонные ночи и шок! И однажды в присутствии твоих гостей я попыталась вставить слово в разговор про академика Сахарова. Вечером ты вызвал меня к себе в кабинет: «Всё, о чем мы говорим в стенах этого дома, я прошу тебя здесь же и оставлять. Если ты не хочешь повторить судьбу бабушки, если ты не хочешь повторить судьбу деда, тебе надо научиться молчать».
Что это было? Страх? Не знаю. Мы ведь никогда не обсуждали даже возможность уехать из страны. Так вопрос в нашей семье никогда не стоял. Только сейчас я начинаю понимать: ты просто очень любил свою Родину. Именно так, с прописной буквы, как полагалось раньше писать в школьных тетрадках в линеечку.
Может быть, именно поэтому ты пришёл на защиту моей кандидатской. И хвалил мои университетские спектакли в «Английском театре». Поэтому понял, почему я в один прекрасный день ушла из МГУ, и не стал меня за это пилить. Потом поддержал мои экстравагантные профессиональные ходы – от руководящих постов в алмазной корпорации до продюсирования рискованных сюжетов для Би-би-си. Жалко, ты не увидел, как я обклеила Московский метрополитен цитатами из русской и английской поэзии, не застал моих выставок и книг про архитектуру и искусство, не поездил со мной на модные показы в Милан и Париж, не увидел, как теперь придумывают и создают стиль, который у тебя, впрочем, был врождённым.
Смотрю на вашу с мамой фотографию начала 60-х, как вы садитесь в поезд и уезжаете в Ленинград. Этой фотографии я посвятила своё первое слово редактора первого номера русского Vogue – вы и впрямь там как будто сошли с отпечатка знаменитого фотографа моды Питера Линдберга. Ты – в широких светло-серых брюках с высокой талией и рубашке в тонкую полоску, мама – в лёгком, чуть приталенном, шифоновом платье на подножке поезда. Даже слышен последний гудок перед отправлением.
Недавно я пересела на другой поезд и взялась писать сценарий второй половины жизни. И как бы ты меня ни ругал за «потерю фактора времени», я всё чаще понимаю, как, в сущности, мы похожи. День так же расписан по минутам, телефон так же разрывается, меня так же обвиняют в эгоизме и самовлюблённости, хотя я безоглядно обожаю своих друзей и твоих внуков. Когда я в Москве, мы собираемся толпой у меня на даче и, как теперь принято говорить, зажигаем по полной. Тебя, наверное, порадует то, что многие помнят тебя и передают тебе привет. Есть и такие, кто, узнав, что я твоя дочь, с почтением кланяются.
Тут одна симпатичная девчонка-журналист меня спросила: «Алёна, а как бы вы хотели умереть?» Я вспомнила твой давний ответ и процитировала его, выдав за свой. А про себя подумала: отлично, значит, у меня в запасе ещё тридцать лет.
Я скучаю по тебе. Я ещё тебя обниму.
Три вопроса маме
Меня часто называли красивой в глаза и за спиной. И всякий раз, когда я слышу этот эпитет, вспоминаю маму. В голову лезут три маленькие истории, связанные с её – настоящей – красотой. Истории, мной до конца не прояснённые, и от этого ещё более значимые и загадочные.
Как-то раз, в конце 60-х, мама уехала в отпуск в Сочи и перед возвращением домой позвонила и сказала, чтобы мы, как обычно, не плелись в аэропорт её встречать, а ждали дома. Мне было лет четырнадцать вроде, брату Андрею, значит, – двадцать два. И вот она звонит в дверь нашей квартиры на Садово-Кудринской, мы с папой и с Андреем бежим открывать, она стоит на пороге. У нас троих как открылся рот, так мы не могли найти сил его закрыть.
Мама была ошеломительно хороша. Загоревшая, похудевшая (килограммов на восемь, что было заметно), помолодевшая и без этой своей классической укладки с бигуди и лаком из парикмахерской, а коротко стриженная – сзади под мальчика, а спереди с длинной чёлкой.
Из-под выгоревшей пряди смотрели карие, с узким разрезом, внимательные глаза, аристократичный, как у Греты Гарбо, нос задорно подрумянился сверху. Породистая сдержанность только усиливала эффектность появления. Она выглядела как утомлённая кинодива после бурного отпуска с Бриджит Бардо и Сержем Генсбуром в какой-нибудь Ницце.
– Мальчишки, забирайте скорее мой чемодан! – говорит. И они,
Страница 6 из 16
спохватившись, ринулись вдвоём помочь, стараясь скрыть своё изумление.
Потом мы ужинали, она рассказывала про утренние зарядки, которыми их терроризировали в Сочи, и про прочую отпускную ерунду. А я с того дня не могу забыть, какая она была ослепительная и какой от неё шёл свет. В голове стучало: «Ну ничего себе советский санаторий…» Потом заполз липкий вопрос: «Неужели женщины так хорошеют от домов отдыха?» Что же я тогда не спросила-то? Я знала, что она была верна папе, как Дездемона, и ничего «такого» быть не могло. А вдруг могло? Так и не осмелилась спросить. А она, застенчивая и закрытая, не рассказала.
Другая загадочная история постранней будет. Мне её папа рассказал. Конец 44-го, мама с папой шли со штабом Второго Белорусского фронта к Берлину, оперировали, спасали, зашивали, выхаживали и шли дальше. Им было двадцать четыре и двадцать пять (папа на год старше), и прямо со второго курса Московского Первого мединститута рванули на фронт. Семейное выражение «так надо» я буду потом слышать не один раз. Уже возле Берлина, где-то в пригороде, штаб остановился недели на две. На месте был биллиардный стол, где все резались в своё свободное время.
Подошла мамина очередь играть на победителя. Мама, тоненькая, с этим точёным, магически-привлекательным лицом и золотыми кудрями, постриженными по военной моде, взяла кий. Соперником был разбитной подполковник из штабных и, увидев красивую молодую девушку, решил, что победа будет лёгкой и быстрой.
Мама выиграла у него всухую. Немая сцена. Взяв на поводок любимую овчарку Дину, прошедшую с ней все три фронтовых года, под гробовое молчание штабных она вышла.
Через минуту из-за спины раздался выстрел, Дина упала замертво. Заледенев, мама оглянулась. Полковник смотрел на них самодовольно и сыто.
Я никогда не спросила – что мама потом сделала? Как звали полковника? Как же я тогда хотела найти его и посмотреть ему в глаза.
Мама уйдёт от нас 8 марта 1984-го, и никто не мог тогда знать, что папа отправится вслед за ней ровно через десять лет, тоже 8 марта. Через два дня после её смерти, мы собрали полный дом друзей, маминых и папиных, на поминки. Все говорили о том, какая она была настоящая Женщина с большой буквы, и как она умела любить, глубоко и преданно, и как отдала предложение возглавить кафедру детской хирургии папе, сделав его звездой, а сама ушла в тень (по правде говоря, золотые руки звезды советской онкологии профессора Киры Владимировны Даниэль-Бек надо было застраховать на миллионы). Истории в стиле «А помнишь?» сыпались одна за другой. Вспоминали, как она в ночь перед защитой докторской на руках дошивала шубку, которую мне приспичило надеть на школьный выезд за город. И тут мамина подруга, тётя Ира (фамилию не помню, но говорили, что Ира грешит пристрастием к сплетням), отводит меня в другую комнату и говорит:
– Я тебе, Алён, так-о-о-о-о-е сейчас расскажу, но поклянись, что никому, никогда, ни папе, ни брату, ни подругам, не расскажешь.
Я, разумеется, клянусь. И никогда – ни слова. Но до сих пор мне невтерпёж узнать всю правду.
Дело было вроде в начале семидесятых. Мама спасла от рака молочной железы пациентку, и, как тогда было принято, к ней в клинику пришёл её благодарный родственник. Он шёл по коридору отделения в сторону её кабинета, и все особи женского пола, врачи и пациентки, якобы потеряли способность дышать, слышать и передвигаться. Косая сажень в плечах, высокий крупный красавец-мужчина в светло-сером костюме и с густой шевелюрой. В руках букет роз и пакеты с подарками. Вошёл в мамин кабинет, дверь плотно закрылась, публика замерла. Спустя минут пятнадцать он вышел, чуть опустив глаза. Ничего особенного – всё в пределах постоперационной рутины. Только вот мужчина был уж очень видный.
Станислав Долецкий и Кира Даниэль-Бек, 1941 г.
Через две-три недели мама с тётей Ирой шли по Беговой улице на работу, повернули на 2-й Боткинский, и обе, как вкопанные, остановились за несколько метров до входа в Онкологический институт имени Герцена. Огромная, светлого гранита парадная лестница, ведущая в институт, вся была ярко-красного цвета, словно покрытая исполинской ковровой дорожкой. Подойдя поближе, они увидели, что это не ковёр вовсе. Лестница была усыпана красными розами. В те времена такое явление было под стать падению метеорита прямо на Кремль.
– Кира, что это? Откуда это? Знаешь?
– Не знаю, – ответила мама, – но подозреваю, – и вошла в институт, аккуратно обходя цветы.
Дальше ещё полгода тётя Ира вытягивала из мамы таинственную историю. Итак: у неё был страстный роман с тем самым, с подарками и розами, он был генералом каких-то спецвойск, буйно влюблён, предложил ей руку, сердце, до конца жизни обеспеченную жизнь в любой точке мира ей и всем нам, включая отца и имеющихся родственников. И она, несмотря на совсем непростую, а иногда и тяжёлую жизнь с папой, сказала «Нет».
Я до сих пор кожей чувствую, что история правдивая, и ужасно хочу знать: почему «нет»? Как бы я мечтала у неё спросить: «Что это было? Долг? Верность? Принцип? Жертва ради чего? А папа знал?» А я-то, я-то хороша. Семнадцатилетняя дурёха, купаясь в своём упоительном романе с будущим первым мужем, всё прозевала.
И уж если совсем по-честному, я надеюсь, что она отпустила себя, дала жару, окунулась в безумную любовь достойного мужчины, насладилась и была каждой своей клеточкой счастлива хоть мгновение. Но как же до сих пор хочется всех подробностей. Эх.
Нашла фотографию. Наверное 41-й год. Мама с папой уходят на фронт, крупный план, оба уже в белых халатах, оба в профиль лицом друг к другу, глаза в глаза. Друзья мне сделали из неё фотографию метра два на полтора. Висит дома.
Те, кто никогда не видел моих маму с папой, сначала думают, что это кадр из какого-то американского нуара. Но я точно знаю, что кино моих родителей – про красоту и любовь.
Для одних вонь, для других амброзия. У одних от аромата лилий болит голова, а для меня – чистый афродизиак. Так бывает.
Вечер. Садовое кольцо. Папа стучит в кабинете на пишущей машинке, брат мусолит анатомический атлас, я иду на кухню – там мама. На плотной длинной библиотечной карточке она пишет план дел на следующий день. Едой на кухне не пахнет. Вокруг мамы – ароматное облако из неповторимого и нигде больше мной не слышанного сочетания духов Chanel № 5 и дыма папирос «Беломорканал». Неведомые экзотические цветы, намешанные русско-французским химиком императорского двора и горьковатый лёгкий дымок табака. Она никогда не изменила «Беломору» с «Герцеговиной Флор» и Chanel № 5 с Chanel № 22. Дело не в её верности, а в том, что в этом облаке я купалась всё детство и юность. Оно защищало, отогревало, любило, принимало, учило, обнимало.
По этому запаху я знаю, что мама дома. Что она рядом. Может, занята, и тогда не приставай. Если свободна, можно поплакаться про Наташку Картонину из третьего Б, противную сплетницу, и похвалить Борю Тёмкина, который очень хороший, потому что даёт списать геометрию. И, сидя в этом облаке, можно клянчить, чтобы открыли кофры с дедушкиными шубами, и, запутавшись в них, покрутиться перед зеркалом. И потом в этом облаке рассказывать, что я влюбилась в Алена Делона и его фото повешу над кроватью («Лёшенька, зачем тебе смотреть на слащавого
Страница 7 из 16
цирюльника из провинции?»), и уже взрослой, на пороге замужества за Лёвой, буду откровенничать с ней, что я точно хочу пятерых детей или лучше семерых («Лёшенька, начни всё же с двух»), и потом, когда было страшно и больно после очередного выкидыша («Потерпи, детка, всё будет»). И так всегда – безусловная любовь, щедрость и мудрость в облаке из дыма «Беломора» и Chanel № 5.
Алёна Долецкая, 2004 г.
Она курила непоказно, элегантно, прямо как звёзды большого кино. Не как Дитрих – театрально, а скорее как Жанна Моро или Грета Гарбо. Всегда сидя, никогда на ходу или стоя, и не дай бог разговаривать с папиросой во рту. Помню её профиль с точёным аристократичным носом, чуть вздёрнутыми ноздрями и загибающейся вверх губой и мягкие пальцы, достающие из китайской шкатулки с эмалью следующую папиросу.
Как после этого было не закурить? Никак. Паранойей про ЗОЖ (который здоровый образ жизни) никто тогда не страдал. Ну да, дурная привычка, не более. Вставали на пути борцы. Папа в первых рядах. Школьные учителя. Безрезультатно.
В университете на знаменитом «сачке» – в большом холле второго гуманитарного корпуса МГУ – можно было наконец-то уверенно и с понтом курить рядом с профессурой филфака – редкое наслаждение. Общее занятие уравнивало всех и делало разговоры лёгкими, игривыми и никогда про учёбу. «А что, Долецкая, я не вижу следов страсти на вашей шее сегодня?» – вопрошал Юрий Владимирович Рождественский, профессор языкознания, объект обожания всех девиц. «А что, – глядя на мои джинсы клёш и руку с сигаретой, спрашивает самый грозный медиевист Константин Валерьевич Цуринов, – нынче перчатки с обрезанными пальцами не только велосипедисты разве надевают?»
Во внеучебное время музыку заказывали и достраивали стиль Тихонов-Штирлиц (но ка-а-а-к он курил весь сериал!) и Фаина Раневская, Пол Ньюман и Джоан Коллинз, Джимми Хендрикс и Кит Ричардс. А Баталов? А Никулин? А Папанов? А Ефремов?
Но, если честно, дело совсем не в моде и не в знаменитостях. Просто я не могла не курить. У меня было своё облако, другое, чем у мамы, с другим дымом и другими духами, с куда меньшей верностью к обоим компонентам, но оно у меня было и летало со мной, напоминая о маме.
Когда мама жестоко заболела (реанимации, больницы, уходы, беспомощность), я дала обет своему исповеднику, что бросаю курить ради маминого выздоровления. В одну ночь с двух пачек в день – в ноль. Вряд ли обет помог, но сил и мужества на три тяжёлых года прибавил. Она ушла, облако переселилось в воспоминание.
Лет десять после её смерти я не курила, а потом огрело меня по голове так сильно, что надо что-то было делать: или в петлю или натворить что-то из ряда вон. Список был недлинный. Я никогда не представляла, что могу нарушить слово. А уж данное в храме обещание – точно. Ровно сутки меня бил озноб и наутро, окончательно оледенев, я налила утреннюю чашку кофе и… холодно закурила. Как ни в чём не бывало. Приятно чуть закружилась голова и быстро встала на место.
Алёна Долецкая, Кира Даниэль-Бек, Андрей Долецкий, 1958 г.
Прошло ещё лет пять, и во время невинного отдыха в Андалусии моя наставница по детоксу и оздоровлению («Алёна, ну сколько уже можно курить, давай ты бросишь, я знаю как») знакомит меня с английским специалистом по этому вопросу. На отдыхе же всё легко, иду знакомиться и… оп-па! – специалист оказывается гипнотизёром с редкой красоты баритоном, мягким, глубоким, и с прононсом буквально как у принца Чарльза. Сердце неподдающейся гипнозу филологини растаяло, я вроде заснула, а голос факира журчал в ушах, и спустя час по третьему хлопку открыла глаза. Пришла в себя. Встала с кушетки. Собираюсь уходить, отдаю деньги, и он мне протягивает пачку приоткрытую Marlboro и предлагает закурить. А я ему спокойно так в ответ: «Спасибо, я не курю». В голове пронеслось: «Ой, что это я такое сказала?!» Но принять предложение так и не захотелось. Чудно?! Так и не курила себе, прибавляла в весе, правда, написала про эту историю в журнал и сама себе удивилась.
Всё это происходило до запрета рекламировать сигареты в СМИ, и я решила собрать для одного из номеров Vogue фотопортфолио самых великих кадров, сделанных самыми великими фотографами мира (они же и снимали для журнала в лучшие времена), где герой, модель, актёр или актриса курят. Остановиться мы не могли. Вместе со своими фоторедактором и арт-директором захлёбывались от красоты работ Ирвина Пенна и Ричарда Аведона, Хельмута Ньютона и Питера Линдберга, Марио Тестино и Ричарда Бербриджа. Печатали на принтере, выбирали и отсеивали знаменитую Ньютоновскую красотку в смокинге YvesSaintLauren на мокрой улице Парижа за избитость и не менее знаменитую Пенновскую с тарелкой, полной измятых протухших окурков и окровавленной вилкой. Я брала распечатки домой и раскладывала их по полу, развешивала по стенам. Сидя как-то на даче, к тому моменту обклеенной со всех сторон фотографиями, я услышала от кого-то из друзей: «Слушай, может, ты уже просто закуришь? Чего мучаться-то?» Сказано – сделано. А портфолио всё равно не разрешило начальство.
Бог с ним, с начальством. И бог с ними, со странными запретами на всё, уродливыми фотографиями гниющих дёсен и угрозами импотенции на пачках, а теперь и с изнасилованием старых фильмов, из которых вырезают эпизоды с курением. Мы посмотрим оригиналы. Знаем где. Главное, чтобы облако было своё. Всегда. Рядом.
Конец невинности
С одной стороны, без родителей – никуда. Мне с моими повезло, я их любила, училась у них с руки: «надо, Федя, надо», «душа обязана трудиться», «точность, деточка, вежливость королей», «всегда смотри в глаза», «меньше пены» и прочие мудрости. Лучшей колыбельной был звук родительской пишущей машинки за стеной: оба были выдающимися хирургами и вечерами писали свои диссертации и разные книги.
С другой стороны, пока они эти диссертации писали, мне исполнилось четырнадцать лет и у меня случился головокружительный роман с мальчиком Мишей, на два года старше. Миша был модный, в 1969 году он ходил в белых брюках, свободно болтал по-английски и вообще герой, потому что перепрыгнул экстерном из восьмого класса в десятый. Внешне он был такой огненный замес Киану Ривза и Леонида Филатова. А ещё Миша играл в теннис.
В теннисе я ничего не понимала, он мне казался буржуазным, да и в семье к нему ни у кого интереса не было. Но когда Миша позвал меня смотреть, как он играет, я, естественно, пошла. Мужчина, который занят чем-то полезным, включая спорт, всегда выглядит эротично. Я этого тогда не знала, но подействовало безошибочно. В какой-то момент полил дождь, игру пришлось остановить, мы побежали под дождём к нему домой, целуясь без остановки и, конечно, промокнув до нитки. Природные катаклизмы, громы и молнии – это, кстати, тоже эротично.
Алёна Долецкая, 1969 г.
Мы пулей влетели в его сухую пустую квартиру (родителей не было, ура-ура), оставляя за собой миргородские лужи. Разделись, повесили вещи сушиться и, завернувшись в пледы, сели обсыхать, согреваться, разговаривать, и целоваться.
В какой-то момент Миша меня спрашивает:
– Скажи, а ты была с мужчиной?
Я отвечаю, не задумываясь:
– Само собой!
Он слегка напрягается.
– Правда? Кто?
Я говорю:
– Ну, если совсем близко, то вообще-то
Страница 8 из 16
– Расскажешь?
– А чего рассказывать? Мне оба нравились, но они совсем разные. Оба папины аспиранты и оба, не поверишь, Валеры. Один – такой московский армянин, с ним было интереснее, он – яркий, эмоциональный, я с ним больше времени проводила. А другой, наоборот – тёмно-русый, голубоглазый, с ним было скучнее, но спокойнее.
Так оно всё и было, я, в общем, честно отвечала на Мишин вопрос, имея при этом в виду, что когда аспиранты вдвоём приезжали, то, пока папа работал с одним, другого подкидывали мне – чтобы скучно не было.
Миша переспрашивает:
– И ты с ними сейчас продолжаешь встречаться?
– Нет, это уже всё закончилось.
Тут я имела в виду, что оба уже защитились и к отцу моему по этому поводу больше не приезжали.
Миша перестал меня расспрашивать, мы целовались дальше, но всё-таки подмёрзли – и в конце концов перелезли в кровать, где было теплее и уютнее и где, как я позже поняла, пылкие поцелуи перешли в занятие любовью. Это было очень приятно, даже как-то неожиданно и гораздо более круто, чем просто целоваться. Моё необычайное новое удовольствие от острых переживаний было прервано тем, что в какой-то момент Миша меня крепко-крепко обнял и начал дико хохотать. Буквально захлёбываясь. Передохнув, спросил, как я себя чувствую, на что я честно ответила, что чувствую я себя офигенно. Тогда он всё-таки решил уточнить:
– Ну, то есть ты всё-таки не была с мужчинами?
– Как не была, – возмущаюсь я, – я же тебе всё честно рассказала! С Валерой Акопяном вообще часы вместе проводила.
– Ну не в этом же… смысле?
– В каком?
– Ну вот как мы сейчас?
– А-а-а! – говорю. – Нет, конечно. В этом смысле не была.
Тогда Миша велел быстренько собрать постельное белье и запихнуть его в стиральную машину. Тем более он уловил, что домой вернулась его мама. У них была очень большая квартира, так что я ничего не слышала, не замечала, ну и вообще меня никак это всё не беспокоило. Я удивилась, почему он сильно суетится, чтобы по-быстрому проникнуть в ванную. И даже спросила у него, что, мол, не так.
– Да не, всё так, – ответил Миша, – просто бельё надо постирать.
Ну, хорошо, бельё так бельё. Увидев на простыне кровавое пятно, я удивилась, но не более.
Потом нас одолел голод, мы отправились на кухню, и тут на нас натыкается Мишина мама, которая радостно зовёт нас в гостиную, у неё там кофе, булочки. Мы обещаем прийти – но потом всё-таки возвращаемся в его комнату, чтобы ещё немножко поваляться.
Семья у Миши была в высшей степени респектабельная. Папа, как я позже узнала, занимался разведывательной деятельностью, а мама преподавала иностранные языки в МГИМО. Ну, и Миша тоже собирался в МГИМО после школы.
Мы продолжали целоваться. Миша ещё пару раз меня переспросил, как я себя чувствую, а я не понимала, в чём его беспокойство, и страшно радовалась, что согрелась, потому что продрогли мы под этим дождём до костей.
В какой-то момент мы отправились в гостиную к маме пить свежесваренный кофе, она увидела, что мы в пледах и вещи у нас все мокрые, и велела Мише дать мне немедленно её халат. Короче, потёк день необычайного счастья. За окном дождь, гром и молнии, мы уютно сидим и пьём кофе, сваренный с кардамоном и ванилью. В какой-то момент Мишина мама, которая ко мне хорошо относилась, говорит: «Алёночка, ты такая хорошая и красивая девочка. Я хочу, чтобы у тебя от меня что-нибудь было красивое в подарок», – и отдаёт мне, снимая с пальца, своё серебряное кольцо, всё обсыпанное крохотными гранатиками. Я говорю что-то вроде того, что, Тамара Алексеевна, мне неудобно. А она отвечает, мол, вот у тебя есть уже одно колечко, пусть будет ещё с камушками. Ну, мне что камушки, что не камушки, разницы я тогда не видела, а подарок дело всегда приятное.
Близился вечер, я вспоминаю, что обещала быть дома к семи. «Точность – вежливость королей». Я всегда знала, что обязана прийти к оговорённому времени. Потому что опоздание – это неуважение ко всем остальным и вообще невежливо.
Впопыхах надела полувысохшие вещи, а потом же ещё нужно было поцеловаться. Короче, домой я добралась в половине восьмого.
Михаил Рогов, 1969 г.
Папа встретил меня и тихим голосом велел зайти к нему в кабинет, а это всегда означало что-то очень плохое. Он попросил объяснить своё опоздание. Я сказала, что я была с Мишей и что мы гуляли, а потом попали под проливной дождь. Папа начал делать мне выговор за нервы, которые они с мамочкой потратили за эти полчаса, – и тут увидел у меня на руке новое кольцо. Спросил, откуда – я сказала для простоты, что Миша подарил. Папа, не раздумывая, лёгким движением руки сдёрнул кольцо у меня с пальца, размахнулся и вышвырнул его прямо в балконное окно. После чего отправил меня в мою комнату, велев подумать над своим поведением и пообещав завтра ещё раз со мной поговорить.
От потери кольца у меня разрывалось сердце, и я метнулась во двор, сделав вид, что срочно решила вынести мусор. Оказавшись во дворе, попыталась вычислить траекторию возможного полёта. Ничего на месте вероятного падения, конечно, не нашла. Там ещё стояли два открытых мусорных бака, и я понимала, что если кольцо попало в один из них, то шансов у меня вообще нет. И вот я уже обливаюсь слезами, потому что и неловко, и жалко, и всё было так хорошо и так хотелось это кольцо у себя иметь совсем не из-за гранатов, а как символ удивительного дня.
Короче, я села на корточки просто порыдать, и… увидела кольцо, валяющееся в траве. Тут даже папин гнев не смог мне испортить настроение. На следующий день мы всё равно выясняли отношения, я пообещала, что больше такое никогда не повторится, и выслушала в ответ, что качусь по наклонной плоскости, что всё это звенья одной цепи и тройка по поведению на позапрошлой неделе тоже звено в этой гребаной цепи.
Дальше – я хожу в школу, мы с Мишей встречаемся, гуляем, и не только гуляем. Всё идёт своим чередом, в нашу жизнь никто не вмешивается, и мы чувствуем себя прекрасно. В какой-то момент, видимо, сработала интуиция у моей мамы.
Стоим мы с ней с балконе, болтаем, и мама ни с того ни с сего вдруг:
– Скажи, а что, с Мишей у тебя всё серьёзно?
– Да, мама, мне кажется, очень серьёзно.
– Да? – говорит. – А ты с ним близка?
Я отвечаю от всего сердца:
– Да, знаешь, мы очень близкие люди.
Мама, похоже, не очень довольна ответом.
– Хорошо, да, близкие люди… А вы… Ну… как бы сказать…
Я совсем не понимаю, что она пытается узнать и что её конкретно интересует.
– Скажи, дочка, а откуда у тебя кольцо?
– Если честно, Тамара Алексеевна подарила. Мы с Мишей были на теннисе, потом у них дома пили кофе, и вот она мне тогда подарила.
Мама по-прежнему не удовлетворена, а я по-прежнему не понимаю, чем именно. Наконец, она набирается духу и спрашивает:
– А вы спите вместе?
– Мам, ну конечно спим!
Конечно же, мы спали. В смысле спали сном. После долгих-то занятий любовью.
Сегодняшнему поколению смешно такое слышать. Но тогда для всего этого не было никакого языка. То есть я со всеми участниками предприятия буквально попала в ситуацию lost in translation. Не подумайте, я, разумеется, залезала к брату в библиотеку и листала у него анатомический атлас. Потом как-то раз в процессе своих подростковых исследований обнаружила у папы американский журнал, по всей вероятности, Playboy, там были
Страница 9 из 16
женщины с «грудями» и разной степени раздвинутыми ногами. Но всё это было крайне малоинформативно.
Короче говоря, мама поняла, что происходит какое-то недоразумение. Она меня обо всём выспросила, получила на всё положительный ответ, но разговор зашёл в тупик. Тогда она начала сначала:
– Ну, вы целуетесь?
– Ещё как!
Надо сказать, маме я не врала никогда. С папой было сложнее, а маме – только правду. Мама знала, что у меня в школе было три дневника: один для папы, другой для неё, третий для учительницы. Она знала всё.
– Ну, тогда давай так. Ты девушка или женщина?
Я говорю:
– Мам, а ты как думаешь? Мне кажется, я уже в общем-то женщина.
Я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, по ответу на какой вопрос она всё же поняла истинное положение вещей. Кажется, она в результате постепенно и вынужденно спустилась до физиологических подробностей. И только тут до меня дошло, что за казус постиг двух великих медиков: они дописывали свои докторские диссертации, совершенно упустив при этом из виду, что есть важные вопросы, которые нужно было разъяснить дочери – причём своевременно.
Моя великая, прекрасная мама стала нервничать и причитать – а я по-прежнему не понимала, что, собственно, случилось. Тут-то и выяснилось, что весь кипеш из-за того, что можно забеременеть и что нужно предохраняться. Из разговора я вышла в состоянии абсолютной озадаченности, внезапно обнаружив, что ничего не знаю про драмы и тайны интимной жизни. По счастью, мы с мамой здраво рассудили, что папе и правда всё это знать совсем ни к чему.
История эта не только про трудности перевода. Она про педагогический провал образцовых родителей, которые мало того что медики-академики, но ещё и учат тебя никогда не опаздывать, составляют тебе план чтения на годы вперёд, говоря, что Бальзака рано, а вот Грина надо сейчас – и в результате умудряются прозевать важное и очевидное. Но это история и про счастье, про то, как моё неведение позволило встретить свой первый секс как лёгкое и очень весёлое приключение. Наверное, поэтому до сих пор я часто смеюсь в постели.
Робот-лошадь Пржевальского
Лето. Жара. Москва. Воскресным утром из дома номер 7 по Садово-Кудринской выходит счастливая троица – высокий привлекательный мужчина с седыми висками, юноша лет семнадцати и девятилетняя кудрявая девочка. Лёгкой походкой доходят до угла Садового кольца с улицей Красная Пресня и идут вниз. Там заветные исполинские ворота в главный детский рай – Московский зоопарк. Рай если не всех детей на планете, то мой точно. И да, пухленькая кудрявая это я. С папой и братом.
Я их давно умоляла сходить со мной. В зоопарке открылась новая территория и, говорят, завезли много новых разных и больших животных. Мне гарантировано счастье на полвоскресенья, на улице – теплынь, и у меня новое болгарское голубое платьице в стиле baby doll.
Таблички «Животных не кормить!» висели, к счастью, не везде. Поэтому мы закупили булочек и семечек.
Меня пробирала дрожь наслаждения, когда удавалось отправить в пушистый или оскалившийся, длинногубый или вытянутый трубочкой рот что-нибудь съедобное и смотреть, как угощение исчезает в пасти животного или в клюве птицы.
«Смотри, как он ходит!», «Ой, полетел-пополз-поплыл!», «Иди ко мне скорей!». Семечки с крошками булочек исчезали, я успевала пылко влюбиться в каждое новое животное.
И тут брат и папа говорят: «Смотри, Алён, мы теперь входим в новую зону зоопарка. И – внимание! – здесь все животные ненастоящие. Это роботы. У них только перья, мех и кожа – натуральные. А внутри – отменно сделанный механизм».
Я, в изумлении: «Дааа?!!!»
Моих мужчин охватил творческий азарт.
– Смотри, видишь уточка плывёт? Настоящие так ровно и прямо не плавают! А вон орёл степной не двигается уже минут пять, наверное, механизм заело. Или вон, смотри, лошадь Пржевальского ходит только вдоль ограды, туда-сюда! Не бегает кругами совсем. Наверное, с поворотом у них что-то сломалось.
Я всему верю, не устаю изумляться человеческому гению и несусь подкормить летучую собаку из вида рукокрылых. Она живо схватила у меня с руки пару семечек и повисла на рейке вниз головой.
– Так у них что же, и живот механический?! – спрашиваю я брата.
– Конечно! – Он уверенно: – И там же в механизме есть специальная переработка какашек, которые в конце дня просто пылесосит служащий зоопарка.
Когда закончились рассыпчатые булочки, а вместе с ними и терпение брата с папой, мы отправились домой.
Меня по-прежнему трясло от восторга. Я мучила отца с братом вопросами про жизнь, смерть и размножение этих новых суперживотных. Едва влетев в квартиру, я выпалила маме сенсационную новость про зоопарк. Подробно и с неумеренными преувеличениями описываю ей повадки роботов из животного мира.
По её вспыхнувшим глазам начинаю понимать: что-то не так. И тут у меня из-за спины раздаётся сначала сдавленный стыдливый смешок, а потом папа с братом хохочут во весь голос и гордо рассказывают маме о своей остроумной шутке.
Дорого же они за неё заплатили. Сирена моих рыданий оглушила их на добрый час. А заодно они были наказаны мамой в стиле «я не желаю с вами вообще разговаривать».
Эх, мальчики-мальчики, нехорошо обманывать девочек!
Прошло время, рыдания забыты, но лёгкая обида осталась на много лет. И тут мне попадается книга выдающегося физика-теоретика и футуриста Митио Каку «Физика будущего». В последней главе «Один день в 2100 году» он описывает сам этот день.
Так вот, домашний друг главного героя – собака-робот, которая «умеет играть, бегать, приносить брошенные предметы – в общем всё, что делает настоящая собака. Только на ковёр не писает».
Детская обида испарилась. Даже появилась какая-то гордость за своих провидцев-родственников.
Любоваться настоящими животными, радоваться их загадочному дикому счастью я буду всю жизнь. Когда у меня появился загородный дом, в нём прочно поселились собаки – весёлые, красивые, раздолбайские хаски. Иногда, во время внезапных припадков собачьей благовоспитанности, они кажутся мне ненастоящими. И я испуганно трогаю их, боясь нащупать механическое сердце.
Эх, где мои семнадцать лет на Большой Каретной? Начало 1970-х было бурным. На носу долгожданный выпускной из 22-й спецшколы, непросто принятое решение поступать в МГУ на филологический, а вовсе не в медицинский.
До вступительных оставалось десять месяцев. Провалиться на экзаменах в университет означает накликать позор на семью, поэтому ношусь по репетиторам и кручу подростковый и весьма платонический роман с Максимом Никулиным на радость нашим родителям. Столько дел, столько дел. Как-то, дождавшись родительского отъезда на выходные к кому-то на дачу (это же с ночёвкой!), я устроила весёлую гулянку у нас в квартире.
– Чтобы к нашему возвращению всё было убрано и вымыто! – кинули последнее условие папа с мамой.
Всю ночь двадцать подростков обжимались под битловских «Hey Jude» и «Yesterday», тряслись под ABBA, орали хором с Эриком Клаптоном «Лейлу», рыдали над смертью Джанис Джоплин, поглощали много среднего качества вина из дружественных соцстран, целовались, обнимались.
В одном из танцев я врезалась в тёмно-шоколадные глаза с длинными ресницами. Они принадлежали троюродному брату Максима – Лёве
Страница 10 из 16
Карахану. Он был старше Макса года на четыре и казался полной его противоположностью. Вместо гусарской лени Макса – сдержанность, не блондин, а жгучий брюнет, тот сыпет шутки и анекдоты (весь в папу), этот редко роняет ироничную фразу.
Лев Карахан, 1974 г.
В воскресенье днём, очнувшись от гулянки, выжившая троица Никулин-Карахан-Долецкая занялись выполнением поручения «чтоб убрано и вымыто». Если прилипшие к стене кусочки лимонов можно было содрать, а следы от них – отмыть, то жестоко обглоданное мандариновое дерево у папы в кабинете восстановлению не подлежало. Не искать же ёлочные игрушки-мандарины вместо настоящих? Расплата за дерево была терпимой: не говорить по телефону из дома дольше полутора минут. Ничего, наберём монеток-двушек и побегаем по автоматам.
Через пару недель в ресторане «Прага» на Арбате праздновали день рождения Юрия Никулина. Толпа друзей и родственников всех мастей и разной степени приближённости уселась за длиннющий стол, и началась классическая интеллигентская «посиделка» – с остроумными тостами и хохмами, с пересаживаниями и разговорами, с анекдотами и бесконечными сменами закусок-нарезочек и блюд мясных, рыбных и куриных. И тут я чувствую, что по моей вытянутой под столом ноге нежно так, неслучайно и осторожно проходит чья-то чужая нога. Поднимаю глаза и снова врезаюсь в те самые, за лесом длиннющих чёрных ресниц, ироничные темно-шоколадные. Ба-бах! Разряд тока. Укол в дыхалку. Головокружение от инъекции в мозг. «Участь моя решена».
И понеслось всё в известном стиле «я утром должен быть уверен, что с вами днём увижусь я». По десять звонков в день на те самые полторы минуты: «я скучаю», «люблю», «как ты, моя», «что у тебя», «где и когда». Кино-вино-домино, как говорили мои родители, пошло полным ходом. Он уже учился на журфаке МГУ, а там показывали неведомых тогда массам Антониони, Феллини, Бертолуччи и фильмы Тарковского, Параджанова, Кончаловского, положенные цензурой на «полку». И он водил меня везде.
Я дышала им. Его вкусом, мыслями и словами, его тихим низким голосом, руками, прядями волос. Но вступительные в универ никто не отменял. Я строчила сочинения про лишних людей и маленького человека в русской литературе, зубрила даты, спряжения со склонениями и до выпученных глаз изучала всё про то, что «Лондон – город контрастов».
И тут у нас с Лёвой созрел план-кинжал – как насладиться нашей неуёмной любовью, но совсем без свидетелей. И провести хоть два дня только вдвоём, где до нас никто не дотянется. И ничего нам за это не будет. В мои семнадцать и его девятнадцать на дозоре за нашим поведением стояла пара семей со строгими правилами.
На какой-то из двадцатых дней июня был назначен школьный выпускной. Единственный в нашем детстве праздник, когда ночью, «после бала», все законно плавали на корабликах по Москве-реке и встречали рассвет всем классом. Но вот засада. Аттестат зрелости выдавали в школе только на следующий день как гарантию хорошего поведения на выпускном. У меня такого шанса не было.
Мама купила у директорши комиссионки заграничное длинное платье с разрезом сбоку из голубой парчи с серебряной ниткой (Миучча Прада часто играет с такой тканью), а ещё я выклянчила парик, на которые тогда была беспощадная мода. Явилась в школу платиновой блондинкой с чёлкой и со стрижкой а-ля Джулия Эндрюс на вручении Оскара. Свою афрогриву пришлось намочить и жёстко запихать под парик. Разумеется, все меня с трудом узнали, потом упали. А я прямиком к директору школы на аудиенцию. У той тоже с лицом случилась беда.
– Зинаида Владимировна, – говорю, опустив очи долу, – у меня сложнейшее обстоятельство. Я могу присутствовать на выпускном, выступить в концерте, но в ночную поездку на корабле никак, потому что мне надо сидеть со своей бабушкой (у меня их отродясь не было, вернее, одна ушла до моего рождения, а вторая – когда мне было три года). Она совсем плоха, в больнице, и эту ночь дежурю в семье я. Поэтому очень прошу мне выдать аттестат сейчас.
– Ну, что ж с тобой делать, Долецкая? Хорошо. Забирай.
После концерта и бала выпускники высыпали толпой в школьный двор – прогуляться, выпить разных лимонадов, втайне от учителей покурить и готовиться к поездке на корабль. Тут к воротам подъезжает такси, открывается боковая дверца, вижу Лёву, срываю парик, сумочку с аттестатом под мышку, и только нас и видели. Ещё засветло мы приехали на его дачу в Валентиновке, и понеслись два дня безудержного счастья – на террасе, на печке, в лесу и где только не.
В очередной раз, не в состоянии оторваться друг от друга, мы упали на поляне поваляться и пообниматься, и вдруг я услышала, как мне в ухо текут три тихих жарких слова, которых я никогда не слышала и почему-то не ждала услышать: «Ты моя жена». Остановка сердца. Счастье.
Вернулись в Москву как ни в чем не бывало. И да. Нам ничего не было. Я засела вплотную готовиться к вступительным. Мама уже была в курсе моего головокружительного романа и взяла в свои руки учебную дисциплину: папу отправила в дом отдыха «Серебряный Бор», «чтобы не болтался под ногами», гостиная была оборудована под рабочую библиотеку, наши свидания с Лёвой дома были под регламентом удара исполинского индийского гонга в коридоре ровно через полтора часа после начала. Моя великая мама.
Грохнуло жаркое лето 1972-го с пожарами и самой жестокой засухой за весь XX век. Воздух накалялся во всех смыслах, и мудрый не по годам Лёва принял решение уехать со всем семейным колхозом в Крым, чтобы дать мне возможность нормально заниматься и готовиться к экзаменам. Шутки кончились, сердца горели. Мы писали друг другу письма, нумеруя каждое (я быстро сбилась, счёт не моё сильное место). Ласкала глазами широкие петли в его буквах «у», «д» и «в», повторяла про себя знакомые нежные обращения, хохотала в голос над бесконечными шутками надо мной и над ним самим, слышала музыку, которую они у себя в Крыму крутили, вымокала с ним под феодосийским дождём и заряжалась энергией, заточенной на победу.
Через полгода уверенная студентка первого курса филфака и не менее уверенный студент третьего на журфаке отправились в ЗАГС подавать документы.
– А где разрешение родителей? – ворчливая тётя не подняла на меня глаз и не оторвалась от пухлой книги записей.
– А нам не надо, – говорю. – Мне сегодня ровно 18.
Великий народный артист «помог» ускорить бракосочетание на целых два месяца.
Папа был в бешенстве. Зачем? Почему сейчас? Ответы про любовь не сработали. Пришлось идти иным путём: сдаю всю зимнюю сессию на «отлично».
– Хм, посмотрим.
Латынь с её gaudeamus igitur, античная литература с «Илиадой» и «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына», введение в языкознание – всё было сдано как обещано. Не помогло. Папа решил не приходить на бракосочетание. Ему крепко досталось от главного матриарха семьи Никулиных, Марии Петровны, тёщи ЮВэ: «Стасик, не дури. Возьми себя в руки и чтобы был». Стасик был.
Нам шло в руки всё, что хотелось, – своя первая маленькая однушка на Новом Арбате, дизайн вместе, заработки вместе, друзья, посиделки, курсовые и дипломные, каникулы и краткие разлуки. С письмами и звонками, если была связь. Мы были счастливы.
Я забеременела и за
Страница 11 из 16
два месяца превратилась в пышную сдобную булочку с грудью. Ночью на девятой неделе начались адские боли, утром меня увезли в больницу. Лёвы не было рядом ни тогда, когда хлестала кровь с больничной койки, ни тогда, когда вычищенную вернули в палату. Чем-то был занят. Не срочным, не безотложным. Наверное, по юношескому инфантилизму не понял, как он мне был нужен. Меня оставили ангелы. Шрам.
И потекла дальше наша молодая прежняя и уже чуть не прежняя жизнь. Он оставался главным любимым, точкой отсчёта, с любимой семьёй. Работал редактором в умном, даже престижном журнале «Искусство кино». Я окончила университет с красным дипломом и поступила в аспирантуру.
И тут мы словно помчались по жизни на разных скоростях. Он задумчиво сидел за столом часами и днями, пытаясь написать статью в журнал, а меня нёс ураган. Первые свои студенты, первые научные спецсеминары и лекции, диссертация. Мало. Занялась йогой (тогда строго запрещённой с угрозой отчисления из МГУ) со всеми вытекающими отсюда вечерними занятиями, медитациями и голоданиями. Мало. Собрала труппу английского театра. Ставили мюзиклы по-английски – для камуфляжа опасных намёков репетировали ночью. Стало неуютно вместе. Разъехались по-дружески с сохранением ключей от квартиры – передохнуть от разницы скоростей. Я любила его всё равно.
Как-то раз после долгой репетиции моим «актёрам»-студентам филфака уже было не добраться до дому, и они остались у меня в квартире на Арбате. Безо всяких там развратов. Я в восемь утра уехала в университет к своим научным подвигам. А около двенадцати он приехал что-то взять дома и, увидев трёх сонных полуголых мужиков, сказал: «Доброе утро. А где Алёна?» – забрал нужное и поехал дальше. Эти трое до сих пор вспоминают спокойного благородного красавца, который почему-то не дал им всем в глаз.
А потом был предупредительный выстрел в воздух. Записка. От него. Не помню, по какому конкретному поводу:
Не рассталась.
И подхватила разбитое сердце и одного из лучших мужчин в моей жизни соседка по рабочему столу в умном журнале. Подхватила и зажала в свинцовый кулак в бархатной перчатке. Как мы развелись, не помню. Главное – я выклянчила у него все письма друг другу за наши удивительные первые семь лет. Бумага желтеет под ленточкой, но широкие петли в буквах «у», «в» и «д» всё те же. Он – другой.
Когда я собралась выходить замуж второй раз, он сказал: «Неужели она за него выйдет?!» Хм! А как он на ней женился?!
Дядя Юра, Король-Солнце
Иногда встречаешь людей, которые оказываются тебе ближе, чем родные. Кажется, что где-то на небесах вы находились в родственных взаимоотношениях, дядя и племянница, муж и жена, брат и сестра, неважно. А соединение с некровным человеком кровными узами – это редкий двойной приход. Его хорошо бы не прозевать в жизни. Он или она могут оказаться «королём-солнцем» вашей жизни.
Москва. Лето. Цветной бульвар. Меня за что-то хорошее родители наконец ведут в Московский цирк. Стоим перед волшебным входом с двумя лошадками, которые упираются передними ногами в солнечный круг со словами ЦИРК. Кого-то ждём. Скоро подходит высоченный, обаятельно сутулый, худой дядька с длинным носом, обнимает и целует родителей, смотрит на меня, одинадцатилетнюю с кудрявой головой, и словно с неба говорит:
– Как тебя зовут, девочка?
– Меня зовут Алёна, – отвечаю.
– А почему ты говоришь басом, Алёна?
– Папа говорит, от бабушки достался…
Следующие двадцать лет нашей дружбы он будет иногда вспоминать, как его удивил мой низкий голос, и очень смешно меня передразнивать. И будет так же называть меня «девочка». Почти всегда. А я всегда – «дядя Юра».
Про Никулина, большого актёра, знаменитого клоуна, директора цирка и космической доброты человека, написано и снято много талантливого. Хотя лучше просто пересматривать его фильмы. Или его цирковые выступления. Всегда видно, какой он грандиозный актёр.
Максим Никулин, Юрий Никулин и Алёна Долецкая, 1977 г.
Но куда важнее, каким он был со своими. Дома. Пойму я это не сразу. А пока в своём неуёмном девичестве я начну пользоваться дядьюриной щедростью: ходить на цирковые представления, бродить по закулисью. Обратная сторона рискованной цирковой сказки была невероятно притягательна.
Идёшь по коридору к Юриной гримёрке, мимо проносятся воздушные гимнасты в искрящихся всеми цветами радуги костюмах, с их ладоней летят белые облака талька, спины прямые как струны, мышцы блестящие, чем-то намазанные. Боги. А навстречу с деловыми и чуть уставшими лицами бредут канатоходцы. Отработали свой номер и на отдых. Они только что чуть-чуть не упали с каната, понарошку, под барабанную дробь, а зал вопил от страха на весь Цветной бульвар, но они продолжали держаться в воздухе за руки, а потом разъединялись и начинали жонглировать. Как размноженный Тибул из «Трёх толстяков», они излучали странное знание о том, как ходить в воздухе по верёвочке и ничего не бояться.
Из-за дяди Юры я могла бы пойти работать в цирк. Слава богу, не случилось. Но насмотреться на этих героев из мифов Древней Греции, которые вызывали космическое восхищение, удалось.
В Юриной гримёрной всегда было тихо. Я думала, у клоунов всё время что-то происходит, они там хохочут, придумывают шутки и номера – ан нет. Тишь да гладь. В гримуборной почти всегда была и Юрина жена, короткостриженая тётя Таня, красивая и любящая. Бывшая актриса, часто «работала» с ним репризы и говорила удивительно звонким молодым голосом. У Никулина, Шуйдина и Никулиной был один большой гримерный стол на всех и все красились сами.
Откуда мне было знать, что клоунские репризы, как многократно уложенный крем в торте «Наполеон», прослаивали насквозь весь спектакль и актёрам надо было быть всегда в полной боевой готовности. Мало ли что может случится? Может, и вне сценария надо будет выскочить.
Несмотря на занятость и обсуждение технических деталей реприз, Юра всегда меня оберегал и заботился:
– Девочка, хочешь лимонада? Хочешь потом сходим к фокусникам?
Как я его доставала с этими фокусами! В самое неудобное время и до самой печени. «Ну дядя Юр, ну как он её разрубил в ящике? Откуда у него в шляпе было столько птиц? Куда он исчез перед нашим носом? А как у него цветок вырос в одну минуту?» И он всегда с честными глазами:
– Да мы сами не знаем, девочка!! Представляешь?!
Он учуял мою страсть и, не дожидаясь дней рождения и Новых годов, стал приносить мне в подарок книжки про фокусников. Я даже не успела попросить. Просто сам.
Так я ещё на полвека и прилипла ко всем книжкам и фильмам про фокусников и волшебников. Ох уж эти тайны профессионалов.
Дружба семьями привела к тому, что мы подружились с Максимом, сыном Тани и Юры, очень на него похожим. Только чуть красивей, что ли. У Макса была такая же поразительная память на анекдоты, та же манера их рассказывать, так же сутулиться. Дом Никулиных был до того гостеприимным, что казалось, в их квартиру на Малой Бронной всегда открыта дверь.
Теперь после уроков я убегала именно туда. Мне нравилось, что у них всё было не так, как у нас. Это был дом, где было всё можно. Вот прямо совсем всё. Смотреть телевизор (у родителей не было телевизора, справедливо считался тратой времени). У Никулиных, кроме собрания
Страница 12 из 16
сочинений Рахманинова, Малера, Дебюсси и прочих Шопенов (этих и у нас дома было предостаточно) были пластинки, из заграничных гастролей с Jesus Christ Superstar, The Beatles, Rolling Stones. Можно было лежать в наушниках на диване, а можно было динамики громко включать. А ещё – там можно было курить!
Дом, где строгость и наказание были несуществующими категориями. Там можно было прятаться. И так как они были совсем богемой, можно было иногда ругаться матом. А на праздники столы ломились от закусок и нарезок всех мастей (ох, этот розовый в прожилочку карбонат), салаты – мимоза и оливье, морковные с сыром и свекольные с грецким орехом, огурчики хрустящие, помидорчики с перчиком и пирожки.
Но Главным был Король-Солнце, сам ЮВэ.
Он приходил домой и начиналось:
– Что делаете, ребятки?
– Английский учим.
– А-а-а, английский. А тут вот приходит англичанка к своей подруге, а та гру-у-стная такая…
И пошло-поехало, свежий анекдот. Иногда он придумывал новую шутку по дороге или в лифте и проверял её на нас, как на подопытных свинках. И начинал дико хохотать в конце, что делал крайне редко. Потом спрашивал: «Не смешно, да?» И все такие: «Не, Юр, чего-то не смешно». А он: «Ну, я так и думал». Он умел смеяться, когда всем было не смешно.
И всегда шутил к месту, а не ради потравить анекдоты. Вот идёт кто-то из нас мимо, мурлычет: «А я играю на гармошке…» Он тут же: «А ты знаешь, как карлик играет на гармошке?» Все подходили к нему, и он: «Вот, смотрите, карлик такой маленький, – и длинными пальцами показывает на больших ладонях нам этого карлика, – гармошечка у него во-о-о-от такая малюсенькая, вот он берёт гармоньку свою, пальчиком маленьким нажимает, и разжимает – ба-бах!» – в разные стороны разлетались его длинные руки, и всем стоящим рядом доставались шлёпки по физиономии невидимой разлетающейся гармошкой. Так он по ходу пошутит и уходит куда-то по своим делам, исчезает. А от него оставался… знаете, как женщина пройдёт и после неё остаётся шлейф удивительных духов, и все говорят: «Да-да-да-да, заходила эта». От Юры всегда оставался шлейф улыбки – он ушёл, а все ещё продолжают улыбаться. Или его ждать.
Дружба с Максимом переросла в замужество с его братом Лёвой. Мамы мальчишек были двоюродными сёстрами. На Тане, маме Максима, после фронта женился дядя Юра, а на Ольге – его ближайший друг Марат, отец Лёвы. И жили они все долгое время с бабушками и дедушками в огромной, кажется шестикомнатной, коммунальной квартире с ещё двумя семьями в двухэтажном особнячке на улице Фурманова (ныне Нащокинский переулок) возле метро Кропоткинская. Когда я переехала после свадьбы в семью Лёвы, Никулины уже жили на Бронной, но на входной двери у их кнопки по прежнему висела табличка, написанная Юриной рукой: «Колхоз Гигант».
А да! Жениться нам приспичило срочно, и, конечно, рядом был дядя Юра. Ускорил установленную законом СССР процедуру ожидания на пару месяцев. Он же, кстати, помог мне с выбором профессии. Родители хотели, чтобы я пошла в медицинский, а Никулины такие с жаром: «Алёна – чистый гуманитарий, на актёрское уж точно пройдёт». Я втихую даже экзамены сдала в школу-студию МХАТ. Тут выступила мама: «Какой ещё театральный?! Только через мой труп! Ещё не хватало в нашей семье этой странной профессии». Потихоньку сошлись на филологическом факультете – я любила иностранные языки и много читала.
Где нам жить с Лёвой, у меня не было ни малейшего сомнения. От родительской профессорской квартиры я отказалась, не задумываясь. Конечно, скучала и приезжала к своим, но счастье было именно там, в «Колхозе Гигант». Тонкие, ироничные и добрые родители Лёвы (меня почему-то всю жизнь будут любить родители моих мужей, некоторые удочерят, но об этом я ещё понятия не имела), застенчивая сестра Наташа и терпеливая бабушка, выносили с олимпийским спокойствием наши бесконечные песнопения и танцульки в соседней комнате.
Как-то мы поехали отдыхать все вместе под Киев. И тут дядя Юра куда-то пропал – вроде к обеду пора было собраться. Побежали на розыски. В пролеске, неподалёку от нашего дома, увидели его спину. Он сидел застывший, как буддийский монах, возле исполинского муравейника и заворожённо наблюдал за насекомыми. Сидел явно уже очень давно. Жалко было беспокоить его банальным обедом.
Отдыхал он от съёмок, от всех нас и прочих дел за чтением книг (библиотека была колоссальная). И ещё у него было guilty pleasure, аналог нынешних компьютерных игр – он любил раскладывать пасьянс. И все знали, если Юра начинает раскладывать пасьянс «13», то подходить лучше не надо – это святое, занят медитацией по-русски. Он только любил, чтобы рядом стояли малюсенькие безе, которые я тогда увлечённо готовила. Порадовать его чем-то было почти невозможной роскошью.
Привилегию всех радовать и благодетельствовать ЮВэ оставлял исключительно за собой.
В остальное время – если не на сцене, под камерами, в кабинете директора – он бесконечно кому-то помогал. Больницы и квартиры, письма и ходатайства, деньги и места работы, похороны и роды. У него был могучий талант отдачи. Он отдавал всем всё. Всегда. И незаметно. Об этом узнать-то можно было или подслушав-подсмотрев, или от других, облагодетельствованных.
На нас, на «колхоз», сваливалась его «обычная» домашняя благодать.
Вот ты обронила за чаем: «Ой, мне так нравятся эти чаи из трав, завариваю и не понимаю, какие травы для чего хороши». Он шёл через неделю в Дом книги, где отоваривался по блату, и приносил оттуда книжку «Травы России и их лечебные свойства», которая тогда была огромной редкостью.
Едешь с ним на его «Волге», он нарушает правила. Останавливает милиционер с мрачно опущенными уголками рта, плюющийся злобой и алчущий взятки: «Ваши документы!» Окно открывалось – и милиционер расплывался, выпрямлял спину и с улыбкой до ушей: «Юрий Владимирович, извините, проезжайте!» Лицо, которое появлялось из открытого окна, производило такой эффект – абсолютного счастья и желания ему позволить всё. Его безусловная любовь к людям возвращалась безусловным поклонением.
Свои были как будто под постоянным, не заходящим никогда солнцем. Это солнце материализовывалось в самых разных возможностях – от найденного именно для тебя чего-то нужного до тихого разговора в углу кабинета. Выходишь утром на даче на веранду. Все ещё спят. Юра, ранняя пташка, уже сварил кофе:
– Смотри, что я приготовил!
– Ой, дядя Юр, я ещё слепая, линзы не надела.
– Ну садись так, бедная Линза.
Легко так утро начать с Карамзина.
И снова книжки, которые не достать, модные вещи из заграничных гастролей и, главное, – долгие ужины, которые заканчивались: «Юрочка, ну поиграй», подросший Максим подыгрывал, и лился Окуджава, Галич, Кукин и народный фольклор до поздней ночи.
Часто комики и яркие актёры оказываются в жизни мрачными и скучными персонажами. У дяди Юры шутка или байка были всегда как будто в готовности «на цыпочках», вот-вот слетят с губ. Он шутил, как дышал. «Девочка, что ты какая-то печальная? Знаешь, тут приходит грустная корова к мужику и говорит…»
А ещё у него был волшебный трюк или особенность быть рядом, даже когда он был далеко. Отсутствуя, он всё время был. Конечно, когда он уезжал на долгие съёмки, мы скучали и, когда он возвращался, неслись сломя голову на
Страница 13 из 16
Бронную: «Ну что? Ну как было? Какая она, Гурченко, как с ней? А Петренко? А Герман и правда такой мучитель?» Он приехал со съёмок фильма «Двадцать дней без войны», который снимал в Узбекистане Алексей Герман, привёз мне оттуда доху в пол – такую дублёнку на овчине – и сказал: «Я, знаешь, почему-то подумал, что тебе очень пойдёт».
На дворе 70-е, и длинное в пол было самым модным, и, конечно, такой дохи не было ни у кого – сверху чёрная, она была подбита каким-то рыжим волком. (Наверное, я всё-таки была барахольщицей задолго до Vogue.) И я ходила в этой только что подаренной дохе по квартире, не могла налюбоваться, а в ней дома можно было просто свариться и закипеть. Такая жаркая, что от двух проходов по коридору с меня ручьями лил пот. Но мне казалось, что я – звезда. И дядя Юра с тётей Таней наслаждались, глядя, как человек сиял в их подарках.
Одни его запомнили как клоуна Юрика, другие – Балбесом из «Кавказской пленницы» или куда более смешным Семёном Семёновичем Горбунковым из «Бриллиантовой руки», а люди большого калибра – Лев Кулиджанов, Андрей Тарковский, Алексей Герман, Эльдар Рязанов – увидели, что Никулин – большой драматический актёр. Его монах Патрикей в «Андрее Рублёве», журналист Лопатин в «Двадцати днях без войны», лейтенант Глазычев в «Ко мне, Мухтар!», Кузьма Кузьмич Иорданов в «Когда деревья были большими» – неповторимы и незабываемы.
По-настоящему бедной, а точнее, всерьёз обедневшей я почувствовала себя, когда врачи нам сказали, что его сердце всё же не выдержало. Проводы в цирке я помню плохо: толпы людей и, слава богу, стулья для своих. Я редко плачу, но тут не могла себя взять в руки и остановить рыданий. Меня рвало на куски слезами. Начиналась истерика.
Казалось, произошло невозможное, недопустимое, несправедливое, непростительное. Какая-то женщина на соседнем стуле меня крепко обняла и прижала к себе: «Потерпи, детка, успокойся». Так я и тряслась всё время в её объятиях. Немного придя в себя, я поняла, что это Наина Иосифовна Ельцина.
Двадцать первое августа для меня навсегда останется днём, когда от нас всех ушёл самый добрый, красивый и щедрый Король-Солнце. Но порой мне кажется, что он просто уехал на съёмки.
Кудрявая и с жопой
Вообще-то я афро.
Родилась платиновой блондинкой, но в силу бурных армянских корней очень кучерявой. Мама сохранила локон моих детских волос, и всякий раз хочется его взять с собой к парикмахеру и сказать: «Сделайте вот так». Чтобы я была как Алёна Долецкая, рождённая десятого января того самого года. По какому-то странному генетическому измывательству к десятому классу я так потемнела, что на первой годовщине выпускного вечера меня никто не узнал: «Ты чего, покрасилась?» Я превратилась в тёмную шатенку. Но независимо от цвета волосы были сильно вьющимися и настолько густыми, что было бессмысленно их отращивать. Непонятно, чем их расчёсывать. Поэтому кличка у меня была Анджела Дэвис. Мой парикмахер иначе как «матрасом» мои волосы не называл, и да, это был просто такой плотно набитый шароподобный матрас. Я мыла голову, сушила, и она вся сама укладывалась – беспечно и очень, надо сказать, удобно. Нет объяснения тому, почему мне это казалось некрасивым. Но факт: я страдала от несправедливости природы.
Во-первых, я не Анджела Дэвис. Во-вторых, я не борюсь за свободу угнетённых народов. В-третьих, я, наоборот, Алёна Долецкая – почему меня нужно дразнить Анджелой Дэвис? Ну и в-четвёртых, уже теперь по совсем необъяснимой причине мне казалось, что густые прямые волосы намного красивее вьющихся. И тогда через подруг-подруг я узнала, что, оказывается, волосы – тот же шёлк. Если поставить утюг на режим «шёлк», а не на «хлопок» или «лён», где слишком жарко, волосы разглаживаются. Никаких щипцов-утюгов в помине в то время не было, были только такие круглые горячие щипцы – для химической завивки. А вот выпрямители отсутствовали в парикмахерской природе напрочь, как это ни странно. Поэтому моя бедная мама вынуждена была, поскольку самой это совершенно невозможно делать, гладить мне волосы утюгом.
Алёна Долецкая, 1978 г.
Дальше моя грива претерпевала всевозможные издевательства. Я узнала, что есть такое измывательство, как шестимесячная химическая развивка, которую я немедленно на себе попробовала. Она превратила мои волосы в какую-то адского уродства паклю, вытравленную и тусклую. Пришлось долго носить модные кепочки и шапочки, чтобы этого ужаса никто не видел. Слава богу, волосы росли бодро и неуемно. Но! Новые вырастали тоже вьющимися.
К счастью, индустрия красоты не стояла на месте, и появились первые неуклюжие утюги для разглаживания. Потом – фены нового поколения, которые в союзе с особой щёткой могли это мелкобесье распрямить. Оказалось, что это неудобно делать самой, поэтому я была обречена ходить мыть голову в парикмахерские и укладываться у мастера. Зато сухие от природы волосы, раз уж я их уложила (если не попасть под дождь и под душ) долго держались прямыми. Но и тут – закавыка. Турбулентная личная жизнь заносила меня в разные ситуации, ведь никогда не знаешь, где окажешься под душем, причём с неуправляемым вектором поливания. Чем нам приспичит заниматься в ванной? А после душа-то я выходила с совсем другой, разоблачённой, головой и, получается, другой девушкой, что мне казалось обманом и даже позором. Ох уж эти превращения!
Жизнь продолжалась, мы осваивали технологии, и на прилавках заискрились ещё более новые фены и щётки, благодаря которым я уже могла справиться с гривой сама. Это было уже почти приближение к счастью. Начала отращивать длинные волосы. Ведь с этим матрасом я не могла носить подлинней, потому что становилась похожей на чабана в шапке. А когда ты их выглаживаешь до шёлка, то длинные волосы смотрятся женственно и игриво.
И тут у меня происходит неожиданная встреча. Иду на премию ТЭФИ в Кремлёвский дворец съездов и встречаюсь с моим другом Володей Григорьевым, основателем книжного дома «Вагриус», а потом и замминистра печати. А с Вовой мы дружим с каких-то давних пор. Он говорит: «Слушай, а ты ведь училась на филфаке в таком-то году? Ты знаешь, что мой дружок Петька Авен тоже учился с тобой? Только на экономфаке». Да я прекрасно помню, он всё время кадрился к одной моей подруге.
– А как же! Но вот после универа жизнь нас раскидала, я никогда его больше не видела.
– О, сейчас мы сделаем ему сюрприз. Он здесь, на премии.
Подходим, вижу, сидит Петя, вообще не изменившийся. Впечатление, что человек принял какой-то консервант в 1980 году. Уже ранние нулевые на дворе, а Петя такой же – быстрый, румяный очкарик, говорит и делает всё очень быстро. Мы подходим, и Володя говорит: «Петь, у меня сюрприз». Немая сцена. Я в облегающем коктейльном платье периода первых лет Vogue, на высоких каблуках, заметно постройневшая с университетских времён и, конечно же, с прямыми волосами до плеч. Петя, замерши, смотрит:
– Долецкая, где матрас?!
Узнал в одну секунду. Мало что узнал.
– Петь, – Вова удивлённо, – ты что, хочешь сказать, что Долецкая вообще не изменилась?
– Страшно изменилась! Я же помню, идёт по длинному коридору филфака в этом тёмно-синем платье, из этого… Как у женщин называется? Шёлк? Шифон? Плиссированная юбка, жопой раскачивает, всё на
Страница 14 из 16
просвет. Белоснежный воротничок – и эта грива тёмная. И идёт такая.
У меня шок. Со скрипом нейронов, ответственных за память, пытаюсь вспомнить, о чём он говорит, но он безупречно точен. Я долго мечтала об этом платье. На последнем курсе универа уже знала, что иду в аспирантуру, и нам разрешили принимать вступительные экзамены. На приёмных я должна быть абсолютной звездой, в тёмно-синем платье в мелкий горошек. Увидела его в фильме на какой-нибудь Софии Лорен. Белый воротничок указывал на верную принадлежность к педагогическому составу, горошек был игрив, а плиссе придавало ещё больше пикантности. Как он всё это запомнил, я не понимаю до сих пор. Говорят же: память как у слона.
– Нет, подожди, Петя, как ты всё это помнишь? – не унимается Володя.
– Да ладно платье, – продолжает Петя. – А эти затёртые джинсы клёш с белой рубашкой и джинсовой курткой? И эта тёмная вьющаяся копна, и эта наглость. Ты зачем так похудела?!
– Петь, я тебе сейчас что, не нравлюсь?
– Нет, я просто потрясён. А ты вообще знаешь, как я был в тебя влюблён? Но ты же всё время была замужем, я наводил мосты через Эмку Абрамову, а она говорила: «Долецкая в восемнадцать вышла замуж, сразу после первой сессии, и она такая верная и мужа любит до беспамятства, у них там какой-то вообще amour toujours, мы все уже обзавидовались. В общем, не подходи, потому что бесполезно, шансов нет».
Этот монолог свалился на меня, как Ниагарский водопад. Как это Петя, счастливо женатый отец двух потрясающих детей, может все это помнить? Тем более учёный, государственный деятель, банкир, коллекционер и, наконец, пишущий интеллектуал. Где он нашёл эти ящички памяти, в которые он всё это положил? Он ведь выпалил, как из автомата Калашникова, чётко, ясно, без пауз, с деталями. И я тут же вспомнила, как влюбилась в этот шифон, его где-то увидев, и мне сказали, что продаётся он только в Тбилиси, и пришлось лететь за ним в Грузию, искать этот тканевый магазин, потом искать портниху, а портниху звали Оля. Развернулась какая-то цепь воспоминаний.
С этого момента мы с Авеном подружились, и, несмотря на то что роман наш так и не состоялся, всё вернулось на круги своя, как будто и не было двадцатилетнего перерыва в дружеских отношениях. У нас было это общее магическое чувство причастности нашей альма-матер под названием «Второй гумфак на Ленинских». Наверное, оно сработало, и после этого мы уже не расставались.
И всё это время матрас и жопа неизбежно всплывают, как исполинская молекула молодости, как неотъемлемая часть меня той – молодой, сносившей мужикам крыши.
Вскоре у меня случилась похожая встреча с ещё одним моим другом. У нас был ранний, бурный и яркий роман, когда мне было лет тринадцать или четырнадцать. Потом мы разбежались, он уехал за границу, прошло лет двадцать пять или чуть больше, он вернулся в Москву, и друзья нас встретили заново. Мы, конечно, сильно изменились – он уже брил голову, но лицо осталось тем же. С внимательными, ироничными, быстрыми тёмными глазами. Про меня он, как человек тактичный, ничего личного не сказал, мы вернулись к нашей дружбе как ни в чём не бывало. И вот мы дружим-дружим домами, прошло года три-четыре, он вдруг говорит:
– Я всё хочу тебя спросить, почему ты волосы-то свои не носишь? Куда они делись, развились? Так бывает?
– Нет, – говорю, – я их выпрямляю.
– А зачем?
Вот подай им теперь и матрас, и жопу. Трогательно.
Этот матрас я позволяю себе, когда уезжаю на отдых, где тепло, солёная вода и где мне, в общем, забить на всё. Я там не растягиваю волосы, и, хотя этот уже совсем не прежний афроматрас, а просто вьющиеся волосы, все ужасно удивляются: «Ой, Долецкая совсем другая, такая чудная».
И тут совсем по-девчачьи я себя сама спросила: «А что я парюсь-то? Почему всё-таки разглаживаю волосы?» И поняла: в том деви?чьем «матрасе» было что-то безбашенное, легкомысленное. Соразмерное и сообразное, как говорил наш Александр Сергеевич, возрасту, характеру и положению.
С гладкими длинными волосами мне легче жить взрослой. Мне кажется, что это красиво. Теперь даже к моему парикмахеру Игорёчку иногда приходят с просьбой: «Можно мне чёлку как у Долецкой?»
И тут вспоминаю это мамино:
– Убери волосы со лба, надень обруч, у тебя красивая форма лба.
– Мам, тебе не кажется, что с обручем получается деревня какая-то?
– Нет, не деревня, а очень благородно.
Недавно увидела свою фотографию с этим обручем на голове – ужас какой-то.
– Открытый лоб делает лицо интеллигентнее, тоньше. Всё-таки понятно, каких ты корней, а не вот это вот обезьянье безобразие, которое ты носишь.
Но вернёмся к мужчинам. Хотела я было расстроиться, что, мол, молоденькая, с матрасом и с жопой, я им нравилась, а теперь ностальгируют. Но раздумала огорчаться! Потому что мы, девочки, тем хороши, что можем без конца то с кудрями, то с прямыми, то в розовый, то в рыжий, то в брюнетку, то в блондинку, то пышечкой, то постройней. Как хочу, так и ворочу. А у мужчин – где такой исполинский размах возможностей? Нет его.
Тем более мы ж не навсегда в розовый. Другое дело в ядерной физике – там есть это страшное «У-У-УПС».
Если бы в утробе матери уже можно было молиться – просить – клянчить, я бы знала, что заказать: пошли мне, Господи, великих учителей. Чтобы трепет до костей, чтобы восхищение до потери дыхания, чтобы страх до чёртиков.
Всякий раз, когда я открываю рот и говорю по-английски, кто-то непременно ахнет: как красиво вы говорите, прямо как англичанка. И всякий раз у меня бежит знакомый холодок по позвоночнику.
Стою я на первом курсе филфака перед всей группой, сдаю зачёт по фонетике, читая феноменального идиотизма текст про погоду в Англии.
– Last time I went for a walk in the country… – распеваю.
– Долецкая! – перебивает Ирина Владимировна Магидова. – Last (с длинным глубоким «а» и с отодвинутым языком вглубь. – Прим. А. Д.) – это «последний». Lust, как это произносите вы (то есть сократила длину и забыла про язык), означает «похоть». Садитесь. Не сдано.
И так два семестра. По мордам – по мордам за каждый гласный и согласный. А вы говорите – красиво.
Самым страшным экзаменом из всех наших семидесяти в Универе всё равно остаётся средневековая литература у Константина Валерьяновича Цуринова. За глаза его звали только Цуринов или Цурик. Крупный учёный-медиевист, в прошлом переводчик на Нюрнбергском процессе, был маэстро шпионажа за студентами. Списать у него на экзамене не было ни малейшего шанса. Он виртуозно ловил шпаргалки. И вот, сдаёшь ему, например, «Ирландские саги. Место и значение в средневековых мифах», и поёшь про их уникальное место, а он тебе так невзначай:
– Вы упомянули Кухулина, великого героя, верно. А напомните-ка, между какими двумя пальцами ноги он держал копьё, когда убивал чудище?
И если ты не прочёл эти саги, откуда тебе знать, что у Кухулина было не пять, а семь пальцев, и зажал он это чёртово копьё между пятым и шестым?
– Увидимся в следующий раз.
Лет через пять я получила красный диплом, а ещё через пару аспирантских лет написала кандидатскую диссертацию «Сравнительная риторика английской и русской публичной речи». Вкратце: на Нобелевскую не тянула, мир не спасала, но филологический подвиг в стенах МГУ был налицо. Отобрала и прослушала пятьдесят
Страница 15 из 16
часов русских и английских публичных выступлений, промерила темпы, интонации, паузы и вывела из всего этого научные и практически важные выводы. Не одна, натурально – под палкой научного руководителя Ольги Миндрул. Вышло вполне недурно и содержательно.
Вылизали мы каждую главу, страницу, словечко, напечатали, переплели и отправили нашей заведующей кафедрой, грозе филологического факультета, да и всего МГУ, профессору Ольге Сергеевне Ахмановой. Она, собственно, давала темы диссертаций и тщательно с ними работала.
Статная блондинка с неизменной стрижкой каре а-ля Марина Цветаева (только верхняя прядь заколота гребнем на затылке), семидесятилетняя дама с отменной фигурой, прямой спиной, всегда на каблуках, в приталенных платьях, а в летнее время с открытыми плечами, – никогда не появлялась в коридорах филфака одна.
Она вымеривала стометровый коридор, как цапля, всегда окружённая свитой мелко семенящих коллег и аспирантов.
О ней ходили легенды. Замучила двух мужей, травила Надежду Яковлевну Мандельштам, гений коварства, калибр Борджиа. Ближайших друзей превратит во врагов один махом, яростный перфекционист, жёсткий приверженец британского акцента и британской филологической школы. Спустя много лет я наткнусь на отзыв выдающегося академика-филолога Вяч. Вс. Иванова:
«Она была ловкой авантюристкой, легко менявшейся в зависимости от ситуации. ‹…› Ахманова участвовала в вакханалии превознесения Сталина после языковедческой дискуссии, ругала моего учителя Петерсона за недостаточность числа цитат из Сталина в его курсе и меня за первые мои сочинения по сравнительно-историческому языкознанию».
Короче, едем мы с моим руководителем к Ахмановой на дачу, где по выходным она работала с аспирантами над научными подвигами. Как положено, с гостинцами в руках и трепетом в душе.
Освободившиеся юные учёные вставали на мытьё посуды, избранным можно было присутствовать на разборах.
Подходит наша очередь. Садимся замерев.
Она улыбчиво:
– Присаживайтесь. – Берет в руки мою рукопись. – Что я вам скажу?
Открывает на третьей, кажется, странице, где Содержание, смотрит внимательно, медленно вырывает её из переплёта и рвёт на четыре части. Та-а-к, содержание плохо сложили, значит, с надеждой думаю я.
А она спокойно вырывает следующую, и следующую, и следующую, и следующую страницу. И так же размеренно рвёт на четыре части. В гробовой тишине. На двадцатой странице я кидаю взгляд на своего научного руководителя. Та пристально смотрит в пол. «Где, кстати, мой второй экземпляр-то?» – с ужасом пронеслось в голове. На середине этой эпохальной рваки, странице на восьмидесятой, явно удивившись нашему смиренному молчанию, Ахманова возопила:
– Что?!?! Всё не понимаете?!?! Да как вы смели?!
– В каком смысле, Ольга Сергеевна?
– Я спрашиваю, как вы смели? Каждую главу открывать этим своим эпиграфом?! Да ещё цитируете чёрт знает кого! Лотман, Якобсон, Рождественский… Вам кто позволил нарушать диссертационный канон?
Крики не мешали ей продолжать методично рвать рукопись.
– И это не просто грубое нарушение научной дисциплины! Это попахивает хулиганством. Я бы даже сказала диссидентством! А это ваше чудовищное «вернёмся к нашим баранам»?! Всё переписать, чушь убрать, остальное я публично разберу на партсобрании.
Обожжённые этим напалмом, мы тихо удалились. Даже к мытью посуды не подошли.
По дороге нас трясло от ужаса. Выгонит из храма науки с волчьим билетом? Опозорит на весь мир? Меня беспартийную будут полоскать на партсобрании? Но чувство юмора взяло своё. Управдом Мордюкова из «Бриллиантовой руки» с её «Отключим газ!» казалась родной сестрой нашего профессора. И конечно, О.С. была исключительно советским человеком. Много гениев она может и не воспитала, но добротных профессионалов, а иногда и отменных филологов – вполне. Филфак МГУ позднесоветского периода вообще давал фундаментальное образование, которое выручило многих из нас в смутные времена, и выручает до сих пор, чем бы мы ни занимались.
Как же мы ненавидели своих учителей-мучителей, какие зверские прозвища им давали, на что в своих детских мечтах были готовы пойти, только бы они не добрались до школьного или университетского коридора. И только спустя годы понимали, как неизмеримо много мы им должны за их строгость и страсть. За то, что научили нас не жалеть себя, много и беспощадно работать и превыше всего ценить профессионализм и самоотдачу.
Потом мне самой придётся устраивать не одну рваку, воспитывая своих редакторов и журналистов. Я буду это делать часто, но не яростно, всегда наедине и уж точно без партсобраний.
Клеймо на языке
Кто был замужем или просто жил в гражданском браке, знает, что это случается – взял и влюбился в другого. Помучились, выяснили отношения, а тут и влюблённость прошла, и снова «люблю я только тебя». Не зря же говорят, влюбиться – одно дело, а любить – совсем другое. В английском ещё интересней выходит: «влюбиться – fall in love», упасть в любовь. Ну, как упал, так и вылезай.
Эта моя влюблённость началась как-то вяло, в школе. Как говорили училки, «язык у неё идёт». Куда он идёт, неясно, но это был английский с его бесконечным школьным «Лондон – город контрастов». Куда загадочней и привлекательней казались песни The Beatles с их The Long and Winding Road.
Взрыв чувств и неподдельной любви к английскому случился в университете на филфаке. Нам поставили высокую планку: «Если ты иностранец, говори с безакцентным английским произношением под названием RP (received pronunciation), учись у лучших, читай лучшее и слушай лучших».
Всё правильно, но напомню: в начале 70-х не было видео, интернета, а живого иностранца – днём с огнём не сыскать. Поэтому – слушаем по три часа в день плёнки в лингафонном кабинете с записями великих английских актёров («никаких американцев и их вульгарного акцента!»), читающих английскую же классику. Учим отрывки наизусть. Так и поселились в моих ушах голоса Лоуренса Оливье, Пола Скоффилда, Мэгги Смит, перекатывающие эти необычные для русского звуки, взмывающие вверх и падающие камнем вниз, грохочущие гневом в шекспировских пьесах, успокоительные на Диккенсе.
Пьеса «Пигмалион», а с ней и фильм-мюзикл «Моя прекрасная леди» с Одри Хепбёрн и Рексом Харрисоном стали каноническим, обожаемым, до дыр перечитанным и пересмотренным произведением о том, как простонародный акцент может лишить человека шанса сделать карьеру. Сам Бернард Шоу велел нам зарубить на носу: «Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать к себе ненависти или презрения у другого англичанина». И ведь прав был Бернард! Спустя почти сто лет Маргарет Тэтчер будет переделывать свой выговор в более статусный в пору своего премьер-министерства.
Короче, у англичан на языке клеймо, которое выдаст их враз. Так что нам, иностранцам, чтобы не звучать, как уборщица с привокзальной площади, надо пройти сквозь эту многолюдную толпу акцентов и не подхватить, как вирус, какой-то неуместный чужеродный выговор.
Днём – лингафонный кабинет, а ночью, пока спали бдительные органы безопасности, радио Би-би-си, из которого лилась живая речь настоящих образованных англичан. Это были минуты блаженства, соприкосновения с чем-то далёким, инопланетным, и в то
Страница 16 из 16
же время близким, потому что оно разговаривало у тебя дома. О поездке «туда» могли мечтать только избранные. Мне это дело не светило – так что любовь к английскому прививалась хоть и в лабораторных условиях, но, с одной стороны, изящно, а с другой – фундаментально.
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=28717366&lfrom=279785000) на ЛитРес.
Берите, пожалуйста! Всего десять долларов! (англ.)
Будем веселиться! (лат.) – студенческий гимн.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя). Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.
По следам новой книжки Алены Долецкой «Не жизнь, а сказка», Яна Зубцова выясняет у бывшего шефа, зачем та ходит зимой без колготок, почему она ее уволила, и что таки мы думаем за феминизм. В общем, то, что в книжку не вошло.
— Все годы работы в Vogue меня страшно волновал вопрос — на хрена ходить зимой в лодочках на босу ногу? Что, понты дороже денег?
— Ты знаешь, этим вопросом задавался и мой папа, и мои мужья. Вообще, это многих почему-то занимает. Но, видишь ли, Россия хороша тем, что дома у нас зимой отапливаются. А ходить со сменкой неудобно. Вот я сейчас пойду на встречу в Третьяковку. Это будет долгая история — с документами, с бумагами, с разговорами. Ну, какие угги? Какие боты? Какие сапоги? Находиться в помещении в зимней обуви мои ступни не любят. Это первое. Второе — тебе ли, руководителю Beauty Insider, не знать, что нет ничего красивее обнаженной женской щиколотки? Третье — я себя очень хорошо ощущаю в туфельках…

1/10 часть обувного гардероба Алены Долецкой. «Да, guilty pleasure, даже отмазываться не буду».
— … я, положим, тоже неплохо себя ощущаю в туфельках. Но сижу перед вами, и мне опять стыдно за свои прозрачные носки. Как будто не было этих 10 лет вне Vogue.
— А что с твоими носками? Вроде не порванные?
— Да вроде нет. Но вы же без носков! А я, как лох, в носках.
— Ну, я вообще сейчас в кроссовках. Спасибо новым технологиям, в кроссах теперь такие продвинутые стельки, ноги не потеют. Но ты не парься. Мне просто приятно ходить босиком. Я чувствую ступню, чувствую свой шаг, мне это нравится. В те времена, когда мы работали в Vogue, — да, это были не кроссы. В основном — Manolo, Prada, Givenchy и Gianvito Rossi, которые делали идеально подходящую мне колодку. А что касается чулочно-носочных изделий, — не выношу, когда они обладают хоть малейшим блеском. Они должны быть абсолютно матовые. Я столько раз ошибалась — на упаковке каких-нибудь Falke написано 100% matt, покупаешь, надеваешь… а они, суки, блестят! И меня это бесит. К тому же, тепла они особого не создают.
— Да ладно, не создают. Наденьте — снимите — почувствуйте разницу.
— Вoт у & Other Stories есть такие, совсем коротенькие, похожие на подследники, их я люблю, только они все время исчезают из продажи. Пару недель назад, когда температура понизилась до -11, они б не помешали: остановилась поговорить со знакомой и тут же ощутила, что, кажется, стою на снегу голыми ногами. Но надо понимать: я автомобильный человек. Выскочила, пробежала пол-Толмачевского и Лаврушинский, — нормально. И опять же, тонус. Если б я перемещалась пешком — надела б угги, как миленькая. Так что сиди в своих носочках, не переживай.
— Ок, спасибо.
— Хотя, знаешь, если уж совсем по честноку, — да, иногда понты дороже денег.

Чемодан Globe Trotter, последняя коллекция, вдохновленная «Убийством в Восточном экспрессе». Объездил с Аленой пока не много стран, но любим за то, что в нем идеально помещаются три пары обуви и два платья. И да, он cabin size
— Ну, наконец-то, вырвала признание. Ладно, перейдем к менее насущным вопросам. Вот, например, феминизм. Про ЗОЖ в вашей книжке — и особенно в интервью на Lenta.ru — все подробно сказано. Мне, как тоже дочери врачей, ваша позиция близка. Но за феминизм я не нашла ни слова. Как у вас с ним?
— Как-то мне с ним… не до конца понятно. По-моему, это слово за последние два-три года сменило ориентацию. Мы все читали The world according to Garp («Мир глазами Гарпа» Джона Ирвинга) про первых феминисток, все восхищались, и все было вроде ясно. А сейчас это вопрос дико сложный. Каждый вкладывает в слово «феминизм» свой смысл, и я не знаю, какой, например, вкладываешь ты. То, что у женщины есть все основания получать равную с мужчинами зарплату и занимать те же позиции — бесспорно, да. То, что это в реальности не всегда происходит — опять да. Позавчера говорила со своей подругой Ингеборгой Дапкунайте, которая в недавнем интервью сказала: «Ну, ребята, давайте по-честному. Посмотрите на количество мужских ролей в кино — и на количество женских. Взгляните на количество мужчин-сценаристов и женщин-сценаристов, мужчин-режиссеров и женщин-режиссеров. А дальше посмотрите на оплату этого труда». Это все так, и тут я за феминизм. Но если говорить об абсолютном равенстве, надо ж понимать, что — да, мы равные, только раз в месяц нас, девочек, вышибает на пять дней менструацией, а еще у нас случаются в разных количествах беременности, а потом роды, и кто грудью кормил, те жалуются, что год ничего не соображали — мозги залиты молоком. Так что есть нюансы.

С ЗОЖ у Алены отношения не очень, общеизвестный факт. Впрочем, у меня — еще более не очень. И мне даже приятно, что в ее лице я нахожу поддержку многим собственным грехам
— Вы лично с дискриминацией по половому признаку сталкивались?
— Никогда в жизни. Я шла по своим работам — преподавание, академическая деятельность, пиар и арт-маркетинг, журналистика — и не задумывалась, кто мой руководитель, мужчина или женщина. Мне было важнее, что я делаю и как. И я не знаю, как отношусь ко всякого рода протестным движениям. Точнее, я часто интуитивно их опасаюсь. Про это на портале Interview хорошо написал Леша Зимин: «Есть люди, которым предназначено выступать в жанре «против». У них это отлично получается. А есть люди, которым органичнее выступать в жанре «за». По всей вероятности, мне больше удается жанр «за». Я за нас, за девочек — любого порву. Но против чего-то, неважно, чего — мне ходить сложно. И я не думаю, что с феминизмом все так однозначно. Например, я не стану оголтело протестовать против того, что женщин-пилотов меньше, чем пилотов-мужчин, и говорить «а давайте-ка сейчас все быстренько выровняем!» Потому что подстраивать графики взлетов и посадок под женский цикл — ну нет, нет. С другой стороны, мне не нравится, что женщин-мэров городов гораздо меньше, чем мужчин. Женщина, с ее инстинктом заботиться об очаге, обустроит город не хуже, а, может быть, лучше. Она его обустроит как дом, и в нем будет комфортно жить. Лучшие продавцы недвижимости — тоже женщины. По той же причине. А что касается полетов, — право выучиться на летчика должно быть у всех. А потом пусть она продемонстрирует блистательные результаты и докажет, что умеет так справляться со своим циклом, что это не станет проблемой экипажа и пассажиров. Вообще, есть в нынешней разновидности феминизма какая-то обратная предвзятость: женщина всегда лучше. Нет, не всегда. Есть сферы, где она лучше. А в других областях у нее должны быть равные права с мужчиной. Что не означает, что она автоматически будет лучше мужчины потому, что женщина. Иногда ей придется доказывать, что она не хуже. И это, наверное, нормально.
— Мне не показалось? Вы сказали «наверное»? Вы в чем-то сомневаетесь? Я была уверена, что вы не умеете сомневаться. В книге я тоже не услышала ваших сомнений. Лидер, руководитель — он не должен говорить «Я не знаю»?
— Я как раз человек, часто сомневающийся. С одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны. То ли направо, то ли налево. Черное? А может, лучше черное с белым? Как будто я не Козерог, а какие-то Весы. Но на работе руководитель потому и руководитель, он так называется и получает более высокую зарплату, — что говорит: «мы посоветовались, и я решила». Без сомнений.
— Берет на себя ответственность?
— Экзектли. И за эту ответственность мы получаем цветочки, подарочки, сувенирчики и прочую хрень. Но мы также получаем невероятное чувство стыда в ситуации, когда твои редакторы накосячили и вместо «крем-пудра» написали «жидкий тональный». И дальше рекламодатели вынимают из тебя двенадцатиперстную кишку и наматывают ее на твой же лоб: «Как вы могли?! Вы опозорили наш бренд, вы опозорили свой бренд, вы опозорили планету!» И ты сидишь,терпишь этот говнопоток, и говоришь: «Простите! Да, да, мы действительно, как мы могли, ну конечно же, это жидкий тональный!» И в тот момент, когда ты готов принимать на себя огонь, не сливая своих ребят в унитаз — ты становишься руководителем. Как бы подчиненные себя ни вели, у них есть ты. В том числе, для защиты. А с другой стороны — чтобы принимать решения. Они трудятся, складывают, перекладывают, придумывают, перепридумывают. А ты послушала и говоришь — «Дорогой, все круто, только давай мы сейчас под формат проработаем эту твою гениальную идею? Здесь ушьем, здесь подрежем. И тогда получится». А если руководитель чешет репу и говорит «Ну не знааааю…» — все будут думать до скончания веков. А продукт — журнал Vogue, или твой сайт, или любой другой — он должен идти, идти и идти. Да, не без осечек. Не без ошибок. Но идти вперед.

Самое удивительное в этой грамоте не то, что Алена выиграла пионерское многоборье, а то, что кто-то когда-то звал ее Леной
— Про ошибки я тоже хотела спросить. Все обсуждают главу книжки, где рассказано про ваше увольнение из Vogue. Некоторые вообще начинают читать именно с нее. Описано блистательно и честно: вот — ситуация, вот — ваша реакция и оценка. Но нет анализа собственных ошибок. Хотя в любой аварии виноваты две стороны. Да, он тебя подрезал. Но что же ты, мудак, не затормозил?! В книге этого не прозвучало.
— Прозвучало! Я увела это в метафору, и, наверное, она не до конца считалась. На самом деле мой принцип жизни — It takes two to tango. Для танго нужны двое. Кажется, это сказал Рейган, когда приехал поговорить с Горбачевым? Для аварии тоже нужны двое. Я стрекозила, как подорванная. Я была упоена тем, что мы делаем, мне казалось, мы самые крутые, и надо только докручивать эту крутизну еще и еще. Безоглядная пахота — ну, ты помнишь — и безоглядное упоение. Но я забыла великую фразу: «Осторожно, господа!» Нельзя так беспечно относиться к себе, когда ты работаешь в большой корпорации. Почему я с таким счастьем сейчас дышу? Потому что я вне ее. Мне не надо каждый день качать эту мышцу. Но это сейчас. А когда ты in, ты обязан тренировать напряжометр. Я не дотренировала. И по линии корпоративного боя — проиграла.

Матрешка, стоящая в углу на подоконнике — одна из тех, что были созданы лучшими дизайнерами к 10-летию русского Vogue. Она была продана на благотворительном аукционе, который устраивала Ирина Кудрина. Матрешку купил бизнесмен Шалва Бреус — и подарил ее Алене
— Кто-то сейчас говорит, что ваш Vogue был слишком многокультурным и слишком маломодным. Кто-то и тогда ставил вам в пример Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой, которая разговаривала с it-girls как it-girl, и собрала на этой поляне свои дивиденды.
— Такие разговоры были. Я их слышала и слушала. Я не была против большей young-hot-sexy-фикации. Главное слово, которое нам тогда спустили сверху, наряду с образцом для подражания в виде Harper’s — be commercial. Надо делать более коммерческий продукт. И мы сидели, думали, решали: да, вот девочки любят так, и давайте добавим еще страниц с вещами в обтравке, а если вы подскажете, что именно в нашем журнале warm, a не hot — мы повысим температуру нагрева. До какого-то уровня повысили. Но, видимо, не до искомого. Ну и в итоге — во всем глянце сейчас мы имеем диалог двух пресс-релизов. Эти журналы полезны для издателей, но совершенно не нужны людям.

У книжки «Не жизнь, а сказка» скоро будет аудиоверсия. Особая. Алена читает свои сказочки не в полной тишине, а при активном участии слушателей. Если купите — знайте: третий сдержанный хрюк на пятом абзаце четвертой сказки — мой.
— Глава об увольнении заканчивается фразой: «И я полетела дальше». Вы реально летаете, я видела это в Астане (мы встретились случайно на , прим. Ya-z-va). Зашкаливающий уровень драйва в каждом взгляде, жесте, вопросе. Где вы берете силы летать?

«Картинку снял питерский фотограф Федя Битков. Очень крутой. Спустя время на выставке Нины Гомиашвили увидела фото Мерилин Монро, сделанное в год моего рождения. Купила, принесла домой — осознала, насколько схожи у нас позы. Даже курим — обе. А настроение — совершенно разное».
— Драйв, Яна, у всех разный. У меня масса друзей — сдержанных, не крикливых, даже флегматичных. Но их внутренний драйв меня поражает и заряжает. Так что давай разберемся, что такое драйв. Профессиональный драйв, на самом деле, просто высочайшая мотивация что-то делать очень хорошо. Как только ты понимаешь, что она куда-то делась, нужно уходить. Если сам не понимаешь, или тебе страшно понять — пусть это сделает за тебя руководитель. Ну, пропал у человека огонь, ну, не стои т у него. Он пишет истории, делает съемки, делает верстку — все плохо, плоско, вяло. Рисерча нет, вкус пропал. Устал? Отработался материал? Однажды мой дизайнер написала заявление об уходе. Я спрашиваю — в чем дело? Перегрузок нет, авралов нет, все, вроде, в порядке. Она говорит: «Знаешь, я больше не могу отличить красивое от некрасивого». Для дизайнера это крышка. Я подписала заявление, и она пошла перезаряжаться. Ты либо хочешь, алчешь и знаешь, как сделать — либо ты не хочешь, не алчешь, и потому не знаешь, как. Тогда собирай манатки и езжай промывать мозг или кишечник. Это называется «психогигиена».

«Чудесная книжка. Я скоро за нее сяду. Засада в том, что заниматься по ней надо ежедневно, хотя бы на 5 минут».
— А можно научиться поддерживать этот драйв усилием воли? Прочитать умную книжку «Как перестать беспокоиться и начать летать» и воспарить? В каждом книжном отдел How To завален макулатурой с лайфхаками. Удивительно, что человечество еще ходит по тротуарам, а не парит в небе.
— Есть лайфхаки — и лайфхаки, советы — и советы, есть, как ее там зовут, Маринина, а есть Акунин. Кто-то Набокова читает, кто-то — Бокова. Я не отрицаю жанр How To полностью. Книжка, которая сейчас у меня скачана на айпад — Свен Бринкман, «Конец эпохи self-help» . Отличная. У кого вообще училась я? В первую очередь — у родителей, с руки. Метод обучения, в который я больше всего верю. Родители просто ходили туда-сюда, а я соображала: «А! Раз так, это хорошо. А этак — что-то не очень». Поэтому я так часто в книжке повторяю — мне невероятно повезло с родителями. Тем, кому повезло меньше, я сочувствую и готова подставить им какой угодно орган, хоть плечо, хоть грудь — прислоняйтесь. Чем смогу, помогу.

Из последних прочитанных книжек — Элизабет Барийе, об отношениях Ахматовой и Модильяни. «Купила в Питере. Не лучшая книга — написана с невыносимо избыточной долей авторской фантазии».
Когда не к кому прислониться — начинаешь искать лайфхаки. И тут можно попасть в ловушку. Ловушка пошлости. Банальности. Или просто совет, который не соответствует твоей сути. Где искать помощи? В хорошей литературе или в достойном кино. Для меня книжки — собеседники, друзья, общество избранных, до которых хочешь дотянуться, пусть даже встав на цыпочки. Читаешь Мураками — и да, конечно, он тебя увлекает, он тебя смешит, но на поворотах думаешь — ой, я бы тут, конечно, так не смогла. С тем же чувством читаешь письма Сенеки Луцилию. Замени вокабуляр, измени «гладиаторов» на «воинов», забудь про век — и вот она, сегодняшняя арена жизни. У нас все те же императоры, все те же гладиаторы, все то же пресмыкание перед одними и попрание других. Сенека просто об этом пишет Луцилию, который, подозреваю, открывал каждое письмо и учил его наизусть. Понимаешь?
— Про Сенеку и Мураками понимаю. Но про живых учителей, кроме родителей, хотелось бы побольше услышать.
— Еще были друзья родителей. Вообще, по моим наблюдениям, родительских друзей дети часто слушают больше, чем собственных мать с отцом. Садился, например, Володя Высоцкий поговорить с моим папой. О чем — я не очень точно ловила, слишком мало мне было лет. Но я чувствовала динамику разговора. Они вдруг начинали спорить из-за поэзии — и я думала: «Хм! Оказывается, необязательно любить Ахматову? Или Некрасова? Значит, они разные, эти писатели, о которых все говорят с придыханием? Значит, можно иметь и другое мнение?» И эта крошечная детская мысль у тебя семечком прорастает. Так что друзья моих родителей — вторая группа моих «инфлюенсеров», как это теперь называется. Какая-то инфлюэнца в мире творится, тебе не кажется? А в университете меня выковывала филфаковская профессура, про это в книжке есть.
— А во времена Vogue — у кого вы учились с профессиональной точки зрения? Ведь первых редакторов российского глянца находили не пойми как, и ни у кого из вас не было представления, что такое этот самый глянец, как должен функционировать журнал, и какие у него цели, кроме как объяснить, почему майка с крокодильчиком стоит 200 долларов, а майка без крокодильчика — 20. У тех, кто пришел за вами, есть вы — как образец для подражания или отрицания. А у вас образцов не было.
— Да, не было. У меня вообще был другой бэкграунд — журналистский и продюсерский опыт на Би-Би-Си, художественные выставки в Британском совете, подготовка каталогов по искусству, филфак, любовь к слову. Визуальная культура, печатная культура, продюсерская культура — все удачно сложилось. А дальше — gap, зазор, пропасть: как, собственно, делается глянцевая журналистика? Я выбила у тогдашнего начальника Бернда Рунге позволение поехать в Лондон и прошла интенсивный курс British School of Journalism Барбары Нордон. Она объясняла, как лучше повернуть материал, какие заголовки больше цепляют, как написать интро. Блистательный курс. Дальше — практика.

«Мы с подругой гуляли по Тоскане. Видим — сидят в ряд 9 мужиков, все как на подбор. Пришлось разбавить. Подруга щелкнула. Чем тебе не реклама Dolce & Gabbana?»
— Вы когда-нибудь задавались вопросом, что общего у успешных людей?
— Что ты вкладываешь в понятие «успешный человек»? Чем успех будем мерить?
— Успех в данном случае — полная реализация задуманного и вознаграждение. И материальное вознаграждение, и духовное, то есть — наличие некоего авторитета.
— Окей. Успешные люди просто очень любят делать то, что делают. А все, что ты перечисляешь — следствие этого. Ты придумал, реализовал, родил продукт — неважно, книга это, спектакль или уютный двор — и он удался. В него поверили. И ты автоматически приобретаешь тот самый авторитет и влияние. Но вообще, мне кажется, понятие «успех» переоценено. Особенно сегодня, когда люди, у которых полмиллиона фолловеров в Instagram, считаются успешными персонажами. Как долго просуществует такой критерий успеха как тысяча и один лайк — не знаю. Но пока работает. И это особенно интересно, учитывая, что мир Insta стерильный, в нем нет болезненных падений, отчаяния и всего того, что делает успех настоящим и подлинным.
— Если мы заговорили о падениях и отчаянии. Как научиться держать лицо? Я видела вас в непростых ситуациях. Многие видели еще в более тяжелых. Но вы находили силы улыбаться или, по крайней мере, не рыдать. Меня вот когда размазывает — видно все.
— Знаешь, мне кажется, что у меня тоже видно все. Хотя умение собираться — снова семейная школа. Мама могла прийти домой усталая и раздраженная. И папа ей говорил — «Давай-ка приведи себя в порядок и войди с улыбкой. Ты не имеешь права унижаться до плохого настроения». Мне это казалось невероятно черствым — как он мог?! Это же жестоко! У нее же наверняка на работе что-то случилось! Потом, медленно, я начала понимать, что он имел в виду. Семья — аналог социума. Она объединяет нескольких людей. И не все готовы — и не все могут — выдержать твое сиюминутное проблемное состояние. К этому надо относиться бережно, иначе в доме поселяются вампиры, которые перепиливают остальных: у них все плохо, все не сложилось, а ты давай решай. И вот это «приведи себя в порядок и войди с улыбкой» — если хочешь, некая культура поведения.
Когда я выросла, то была удивлена, обнаружив, как часто и с каким упоением люди говорят про свои болезни. «Ой, у меня вот там болит, а у меня еще хуже, а ты чем лечишь, а я вот этим, а помогает, да если бы». Я слушала, и мне было неловко. Поддержка, — да, бывает необходима. Но для этого есть единственно правильные моменты и единственно правильные люди. Ты со своей болью можешь прийти к конкретному человеку рыдать у него на плече, и это нормально. Но устраивать сеансы эксгибиционизма — нет.
— Говорить, что тебе плохо — табу?
— Не табу. Но — не во всеуслышание, не в качестве темы для общего разговора. Другая подобная тема — кто сколько получает, и что сколько стоит. Ах, это так дорого. Фу, это так дешево. Давайте теперь посчитаем деньги соседа. Ни деньги, ни здоровье дома не обсуждались. И не потому, что мы были сказочно богатыми или здоровыми. Но попусту сотрясать воздух такими беседами считалось нехорошо. Что касается совсем тяжелых ситуаций, в которых я оказывалась — смерть близких, например — то я старалась помнить, что рядом со мной люди. И им тоже больно. Почему они в этот момент должны сдюживать мою истерику? А на работе руководитель просто должен уметь держать лицо. В противном случае команда сдохнет.
— Недавно вы приняли предложение стать креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи. Чего ждать от Третьяковки при вашем участии?
— С Третьяковской галереей я много сотрудничала, когда работала в Британском совете. Мы сделали там четыре масштабных выставки. И сейчас это своеобразное возвращение к истокам. Задачи, которые ставит перед собой Зельфира Трегулова, директор Третьяковки, очень амбициозные, сложные и, с моей точки зрения, правильные. Но Москва не сразу строилась. Дел хватает. До сих пор в новом здании на Крымском нет вайфая, ты в курсе? Крупнейший национальный музей великой страны, 2018-ый год. А вообще мне хотелось бы сделать там столько, что, если начну все перечислять — даже у твоего интернет-издания страницы закончатся.

Свежая программа по уходу La Mer, выписанная Алене на днях, и правительственная телеграмма от зам.министра печати — поздравление ко дню рождения. «Я сходила на процедуру La Mer в ЦУМе недавно. Очень круто!»
— Последний вопрос такой же личный, как первый, про носки. Почему 10 лет назад вы подписали мое заявление об уходе? История была такая. Я писала в Vogue про культуру, и мне было скучно до чертиков. Я хотела заниматься beauty, как и в журнале «Домовой». Но в Vogue отдел красоты был прекрасен и полностью укомплектован. Меня позвали в Harpers Bazaar — на бьюти-позицию, ура. Я собралась уходить. Начались переговоры с руководством Conde Nast, сводящимися к теме — что нужно, чтобы ты, Яна, осталась. Второй темой после beauty, которая меня вдохновляла, была мода. Я готова была остаться на позиции фэшн-райтера. Но один персонаж в фэшн-отделе Vogue заявил: «Либо я, либо Зубцова». Вы, Алена, выбрали его, и дали мне понять, что, если я займусь фэшн-райтерством, ничего хорошего мне ждать не стоит. Разговаривали подчеркнуто холодно. Я вышла из вашего кабинета с легким сердцем: решение было принято, осталось собрать манатки и переехать на Полковую в Harpers Bazaar. Сейчас я вам благодарна: не будь вы так холодны, неизвестно, был бы у меня Beauty Insider. Но — почему?! Я же офигенно писала про моду! И дико вас любила.

Обмен печатной продукцией. Автограф Алены на ее книжке, подаренной мне, звучит так: «Яночке Зубцовой with love in Russian sense of the word»
— Ты хорошо писала про моду, и вообще отлично писала. Но я видела, что вся система Conde Nast тебе не по нутру. И я видела, что ты уже заерзала на попе. А если сотрудник заерзал — его надо отпускать, и, по возможности, делать так, чтобы он ушел с легким сердцем. Beauty я тебе предложить в тот момент не могла, а ты этим горела. Ты, может, сама не понимала: ты вовремя уходишь. И, смотри, что в итоге: ваш авторитетный Beauty Insider. Когда вы его затеяли, мне говорили — Зубцова?! Бьюти-блогер?! А я совершенно не была удивлена. Я знала, что у тебя все получится.

Редкое удовольствие — когда ты можешь сказать своему бывшему начальнику все, что о нем думаешь
PS. Я специально не написала в начале ничего про книгу «Не жизнь, а сказка». Ну, она вышла, и это повод для поговорить, но пока неважно, что я о ней думаю, прочтите интервью. А потом — сейчас — я скажу, что это самая честная из автобиографических проз новейшего глянцевого времени. И она не ранит никого походя — кроме тех, кого, очевидно, автор был не прочь ранить вполне сознательно. Филигранная для автобиографии работа.
Закончив читать (за одну ночь и половину дня), я испытала странное чувство: ты был свидетелем многих описываемых событий и не нашел несоответствия между тем, что видел тогда, и что прочитал сейчас. Ошибки были, обиды были, глупости были, лажи — не было. И в книжке лажи нет.
Алена не написала обо многом из того, что могло бы украсить ее героиню (применимо ли это слово для автобиографий?). Например, ее упрекали в том, что она интересуется людьми только тогда, когда они ей нужны. Если не нужны, — не пытайтесь дозвониться, она способна не поднимать трубку годами. Возможно, это так (я нечасто звонила Алене). Но у нас в Vogue был один парнишка, дизайнер. Он смертельно заболел. Она ездила к нему в больницу каждую неделю. С практической точки зрения этот мальчик уже не мог быть ей полезен. К тому же он вскоре умер. Попробуйте представить, насколько плотно забит график главного редактора на пять лет вперед, но она все-таки к нему ездила. Из этого вполне могла бы выйти жирная глава. Она ее не написала.
Потом, помню, меня доставал один рекламодатель. Он готов был предоставить мне какой-то эксклюзив в обмен на обещание, что я сооружу из этого историю не меньше, чем на 5 полос. (Да, работа пиарщика меряется полосами, часто в ход идет сантиметр.) Раздача эксклюзива предполагалась в Париже. В Париж, в общем, хотелось. Но, не зная, что именно это за эксклюзив, и сколько там будет журналистского мяска, я воздерживалась от письменных подтверждений объема публикации. И вообще, редакторам Vogue не рекомендовалось что-то гарантировать (и правильно). Рекламодатель давил. Я держала оборону. Пинг-понг письмами продолжался месяц, в какой-то момент я поставила в копию Алену. В итоге я отказалась от этой затеи. На мой день рождения Алена подарила мне хитросплетенный букет: тонкие прутики образовывали над кроной цветов прозрачный, но прочный купол. В букет была вставлена записка. За точность цитаты не поручусь, но смысл сводился к тому, что ты, Яночка, под защитой. Тоже была бы неплохая главка, между прочим. Думаю, она этот эпизод и не вспомнила, зато я не забуду.
Потом хрен знает сколько еще всего было. В Алену влюблялись почти все, кто попадал в круг, вне зависимости от гендера, влюблялись с пол-пинка. Я не влюбилась — мне так казалось. По крайней мере, я ее не идеализировала. У нас не было даже идеальных служебных отношений. У меня к ней была масса претензий. Подозреваю, у нее ко мне еще больше. Но, анализируя всех выпавших на мою голову главных редакторов (среди которых были чудесные люди, талантливые люди, порядочные люди и разные люди), могу сказать, что Алена Долецкая была одна такая, Алена Долецкая.
Прочитайте книжку, если еще не.
PSS. Вопросов по теме бьюти, как вы заметили, я решила в интервью не задавать. Но не могла не воспользоваться ситуацией и не зайти втихаря в ванную комнату Алены Долецкой с айфоном. Вы бы мне этого не простили, а она тем более. Сказала бы что-нить вроде «Это, Яночка, для руководителя Beauty Insider — профнепригодность».
Вот, что там на полочках. Кому интересно — разглядывайте.



А ниже — неожиданная находка в холодильнике, куда я полезла за очередным не-ЗОЖ продуктом. Угу, мои любимые патчи для глаз Mosmake.

Но на всякий случай имейте в виду: свечи Алена Долецкая в холодильнике все-таки не хранит. Выгоревшая Diptyque выполняет роль стакана то ли для соды, то ли для чего-то подобного.
И вот еще что.

Двенадцать лет она возглавляла VOGUE, чуть меньше не менее эпатажный Interview. А к личному празднику (10 января Алена Долецкая отмечает день рождения) выпустила биографическую книгу о встречах со знаменитостями разного калибра. Наш колумнист Роман Гальченко разобрал знаковые акценты «Не жизни, а сказки».
Хотя название и отдает безмятежностью, но это всего лишь красивый фантик. Начинка книги доказывает фразу известного автора детективов Ю Несбе, что жизнь – одно непрерывное преодоление.
На бумагу Долецкая переложила истории, которыми делилась с друзьями на дачных посиделках. Да, они забавные, но всегда с ноткой грусти. И в этом есть авторская честность. «Глянцевая девочка», как себя называет Алена, играет не роль, а саму себя. И обнажается если не полностью, то вполне провокационно. До легкой рези в глазах смотрящего.
Алена Долецкая
Тут и школьная потеря девственности, и многократные замужества, и неоднократные выкидыши, любовники и симпатии с интригующей незавершенностью. И при этом всем постоянное желание быть самостоятельной, всецело отдаваясь любимому делу. Дела менялись: от перевода книг и PR-а после окончания филфака до одиозного прихода в мир российского глянца.
Попутно она погружалась и в омут типичных женских горестей и радостей бытия. Расставание с кличкой «Жирик», появление в лексиконе слова «улучшайзинг», безуспешные попытки сделать героя из «своего» мужчины, и особо трепетная любовь к собакам. Обо все этом сочно и местами драматично-слезливо тоже есть в книге.
Но основа повествования все же глянец. Тот самый гламур, который занимал доминирующую нишу в Москве в 2000-х. Для Долецкой это была работа. Она эффектно продавала стиль жизни, красочно поданный на страницах собственного журнала: «От американцев я взяла яркость и внятность модного сообщения, от итальянцев – артистизм и мечтательность, от англичан – иронию и парадоксальность, от французов – элегантную эротичность». Понятное дело, что с добавлением российской души и создавался эффект стойкого привлечения внимания.
«Я знала, что Земфира – перфекционист. Она умеет кидаться не предметами, отшвыривая не понравившиеся туфли, но поворотом головы, жестом и словом, которое летело, как бритва, прямо тебе в горло…»
Журналы для Долецкой были равносильны хрустальным шарам, бросающим цветные лучи на многие жизни. Именно она открыла миру Наталью Водянову. Отдельные главы книги посвящены совместной работе, как и мимолетным встречам с Карлом Лагерфельдом, Джорджем Клуни, Кейт Бланшетт, Катрин Денев и Наоми Кэмпбелл, показывая их ранимость и человечность. Естественно, на страницах есть и наши знаменитости – добрейший Никулин, своенравная Пугачева, неподражаемый Черномырдин, загадочный Пелевин, гибкий Билан… Впрочем, мир журналистики больше полон нервов. Особенно когда дело касается своенравных звездных личностей. Здесь можно выделить историю с Земфирой, которую Долецкая неимоверными усилиями уговорила на фотосессию.
«Я знала, что Земфира – перфекционист. Будет негодовать из-за миллиметра неточно сделанной стрижки… Она умеет кидаться не предметами, отшвыривая не понравившиеся туфли, но поворотом головы, жестом и словом, которое летело, как бритва, прямо тебе в горло… И наконец долгожданный финал, Земфира выходит в кожаном плаще, конечно, застегнутом, но на голое тело, на Басманную, где стоит наша Vespa. За ней гуськом – Рената, Володя с камерой, продюсер Юля и я. И тут Земфира, игнорируя мотоцикл, решительным шагом переходит Басманную улицу на другую сторону, на которой нет ни фотографа, ни Vespa. И куда-то уходит.
Я – за ней. По походке человека всегда видно вот это „я пошел“. Догоняю ее через трамваи и гудящие машины, а она мне: „Все… (далее – нецензурное слово), я больше не могу, все вот это вот, не могу! Достало, (снова нецензурное слово)!“ <…> Исторгаю на нее волшебные облака успокоения, нежности, просьбы, всего на свете. Она остановилась. Посмотрела в глаза. Села на Vespa. И молча доснялась. Уф-ф-ф!»
Новые статьи
- Словарь научных терминов
- Алена Долецкая: из нерассказанного в сказках
- Валютный контроль при экспортных операциях Валютный контроль при экспорте товаров
- Мифы и Легенды * Ахиллес История ахиллеса и гектора
- Михаил ланцов Ланцов библиография
- Нежинская гимназия высших наук В период обучения нежинской гимназии
- "Не верю, что мой сын умер"
- «Сфинкс, не разгаданный до гроба»: как изменилась Россия за годы правления императора Александра I Сфинкс не разгаданный до гроба
- Выстрел у подножия машука (о смертельном ранении м
- "Не верю, что мой сын умер"
Популярные статьи
- Титул «император» и понятие «империя» в России в первой четверти XVIII века
- «Сфинкс, не разгаданный до гроба»: как изменилась Россия за годы правления императора Александра I
- Романовский, Иван Павлович: биография Генеральный директор иван а романовский
- Методы конспектирования: как составить конспект по истории?
- Биография Кто возглавил боевую организацию после ареста гершуни
- Периоды в 19 веке. Xix - это какой век? Ключевые события XIX века
- Будапештская операция. Освобождение будапешта. Силы и средства противоборствующих сторон
- Ссср: чем гордились советские люди и о чём им не рассказывали
- Крымская война: Севастополь
- Презентация на тему: "От острога к городу" Великая Отечественная война