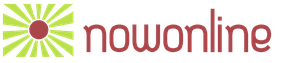За дверью реанимационной палаты. Никогда не разговаривайте с реаниматологом
Человек в реанимации как будто выпадает из нашего мира. К нему нельзя прийти, с ним нельзя поговорить, у него забирают телефон, одежду и личные вещи. Максимум, на что могут рассчитывать близкие – записка, переданная через медсестру. А вдруг человек ? А если это ребёнок? Остаётся только ждать звонка от врача, да надеяться на лучшее.
Почему в больницах такие драконовские правила и как не сойти с ума от неизвестности? Отвечаем на самые частые вопросы о реанимации.
1. Он умрёт?
Не накручивайте себя и не впадайте в панику. Да, у вашей близкой проблемы со здоровьем. Да, это серьёзно. И всё же, если кто-то попал в реанимацию, это не значит, что он на волоске от смерти. Человека могут положить туда даже на пару часов – к примеру, после . Как только врачи убедятся, что его жизни ничего не угрожает, пациента переведут в стационар.
Прогноз зависит от тяжести состояния больного, от возраста и сопутствующих заболеваний, от врачей, от клиники и ещё многих и многих факторов. И, конечно, от удачи.
2. Что там происходит?

Врачам нужен доступ для аппаратуры, а у медсестёр должна быть возможность подмыть пациента – поэтому в отделении обычно лежат без одежды. Многие считают это неудобным и унизительным.
Мария Борисова рассказала в фейсбуке историю своей пожилой мамы: «Сразу же сказали: «Раздевайся догола, снимай всё, носки и трусы включительно». Лежала мама в большом коридоре, где ходило огромное количество народу, громко разговаривали, смеялись. Маленькая подробность: чтобы справить малую нужду, ты должен встать голый со своей кровати перед большим количеством людей, которые ходят взад и вперед, сесть на судно на табуретку, которая стоит рядом с кроватью, и справить свою нужду прилюдно».
Лежать под одной простынёй бывает не только стыдно, но и холодно. И опасно для и так ослабленного здоровья. Существуют памперсы и одноразовое бельё, но это дополнительные расходы. А денег в государственных больницах всегда не хватает. Поэтому проще держать пациентов голыми. Если человек в состоянии ходить, ему могут дать рубашку.
Лежачих пациентов ежедневно обрабатывают жидкостью для профилактики пролежней, а раз в два часа – переворачивают. Тело тоже держат в чистоте. Стригут волосы и ногти. Если больной в сознании, он может делать это сам.
К пациенту в реанимации подключены системы жизнеобеспечения и отслеживающие аппараты. Его также могут привязать к кровати – чтобы в бреду он не повыдёргивал все датчики и не навредил себе.
3. Почему меня к нему не пускают?

По закону, врачи не могут не пустить вас в реанимацию без серьёзной причины. Если же туда попал ребёнок до 15 лет, родители и вовсе имеют право лечь в больницу вместе с ним. Но это в официальных бумагах, а на практике всё по-другому. У сотрудников больницы есть «классический» набор причин не пустить родственников: особые санитарные условия, инфекции, нехватка места, неадекватное поведение.
Правильно это или нет, вопрос сложный. С одной стороны, на Западе прийти к больному можно чуть ли не сразу после операции. Так спокойней и родственникам, и пациенту. С другой – на Западе и условия для этого подходящие: системы очистки воздуха, бактериальные фильтры, просторные помещения. Да и кто сможет гарантировать, что не грохнется в обморок, увидев близкого без сознания и всего обвешанного аппаратурой? Или не бросится выдёргивать капельницы и трубки? Такое тоже не редкость.
В общем, настаивать на посещении или нет – решать вам. Если персонал наотрез отказывается пускать вас, ссылайтесь на федеральный закон № 323 и обращайтесь к руководству клиники.
Соблюдайте все правила посещения: наденьте халат, маску и бахилы. Соберите волосы и захватите с собой антисептик для рук.
4. Чем я могу помочь?
Вы можете купить недостающие лекарства, средства для ухода («утку», например), или специальное питание. Можете нанять сиделку или оплатить консультацию со стороны. Узнайте у лечащего врача, есть ли в этом необходимость.
И у самого больного спросите, нужно ли ему что-нибудь. Дети часто просят принести любимые игрушки, взрослые – планшет или книги, пожилые – даже телевизор.
5. Как вести себя в реанимации?

Максимально спокойно. Не мешайте персоналу. Ваш близкий может лежать без сознания или странно себя вести. Он может необычно выглядеть или пахнуть. Из него могут торчать трубки и провода, а в одной палате с ним могут лежать раненые, тяжелобольные люди. Будьте готовы ко всему.
Пациента во многом зависит от его настроя, а настрой зависит от вас – близких людей. Не рыдайте, не истерите, не заламывайте руки и не проклинайте судьбу. Разговаривайте с ним, как со здоровым. Не обсуждайте болезнь, пока он сам не поднимет эту тему. Лучше обсудите самые обычные, повседневные вещи: как дела дома, какие новости у друзей, что происходит в мире.
Если человек в коме, с ним тоже нужно общаться. Многие пациенты на самом деле слышат и понимают всё, что происходит, поэтому их тоже нужно поддерживать, гладить по руке и рассказывать последние новости. Исследования показывают, что это ускоряет выздоровление.
Если же пациент просит о встрече со священником, врачи обязаны пропустить его в палату. Это право обеспечивает статья 19 законопроекта «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
С диагнозом инсульт, её на "скорой помощи" доставили в реанимацию Боткинской больницы, её ещё называют "шоковой" реанимацией. Левая половина тела Татьяны к тому времени полностью онемела. Первые часы пребывания в реанимации она не помнит, точнее помнит так смутно, что рассказывать о них не стала, чтобы ничего не напутать.
А вот последующие три дня врезались ей в память, похоже на всю жизнь, - психолог по профессии, Татьяна привыкла обращать внимание на "детали":
"Это такое место - НЕ КАК ВЕЗДЕ. Такого в жизни не представишь, как это все можно перенести. Рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки лежали четыре абсолютно голых человека. Простыни с них упали, и никто эти простыни и не думал возвращать на место. Справа - бабулька голая, рядом мужик голый. Потом я заметила, что и я голая, попросила прикрыть меня. "Тут все голые", - таков был первый хамский ответ".
Жестокость и безразличие московских медиков в Боткинской больнице Татьяна видела своими глазами, и каждый раз переживала за своих новых "соседей". Вот привозят мужчину, громко говорят: "У него рак и инсульт", кто-то в ответ "остроумно" замечает: "Ну так чего мы будем с ним возиться?»
Инсульт у Татьяны не подтвердился, - это была ишемическая атака. С каждой минутой она чувствовала себя все лучше, и поэтому всё происходящее вокруг неё воспринималось особенно красочно.
Вот привезли "мальчика" (Татьяне около 40 лет - прим. автора) после автомобильной аварии. Он не мог говорить, но был в сознании. К нему подходит доктор, смотрит на сопровождающие документы и "выдаёт": "Я видел его снимки, у него многочисленные кровоизлияния. Парню вообще не выбраться, ну, может чуть-чуть восстановится, но будет калекой на всю жизнь".
"Я видела, что мальчик этот всё слышит, и всё понимает. У него после визита этого врача давление скакнуло до 160. Я потом ночью разговорилась с одной из медсестёр, мне хотелось понять: как можно было так поступить с этим мальчиком, как они могут так себя вести? Я говорила с медсестрой, говорила, сказав ей, что вижу, что у них тяжелая работа, а она: "Нам без разницы: живой он или мертвый – такая работа, что нам всё равно - живые вы или нет".
Как сбежать из такого места? Никак! Как сообщить, хотя бы, "на волю", что творится вокруг? Никак! Пользоваться телефонами в реанимации запрещено. Муж Татьяны навещал её каждый день, то есть просто подходил к двери отделения и по громкой связи общался не с женой, а с безымянным "автоответчиком", который говорил общие фразы о состоянии здоровья пациента.
Тут нужно особо отметить, что Татьяна попала в реанимацию в тот самый день, когда рано утром впервые отправила свою 9-летнюю дочь в детский лагерь. Весь первый день в больнице ей очень хотелось позвонить, узнать, как у ребенка дела, поздравить с днем рождения - все уж так совпало в тот день, но не тут-то было.
Обстановка вокруг никак не способствовала выздоровлению. Вот кто-то захотел попить, - медсестра набирает воду из под крана и несёт стакан с "живительной влагой" больному.
"Пожилая женщина рядом со мной кричала: "Давайте я вам квартиру отпишу, только помогите!" Вы представляете, до чего надо было довести человека? А за мальчиком ухаживали. Подготовка к обходу – его и подмоют, и причешут. У него и холодильник был с домашней едой, к нему и папу с мамой пускали, а все остальное время так не ухаживали - могли и крикнуть: "Давай ешь!" Бабушка сумасшедшая постоянно кричала, справа – шизофреник. И все время нарушают правила: проходила медсестра, спрашивает: "Что у него?" Другая отвечает: "Не могу ему вколоть..." - "Будем считать, что вкололи!" Или другая история - без ведома врача вкалывали снотворное старушке (для себя – чтобы не орала) - бабулька постоянно звала на помощь. Два человека в коме, нас в палате - шестеро. Один дедушка умирает. Все медики уходят на час – люди орут от страха, но никто на это не обращает внимания. Там правило простое - ты либо выживешь, либо – нет", - говорит Татьяна.
Татьяну в реанимации не оставляла мысль: "Что происходит?" Одна из медсестёр ей объяснила: "Реанимация - это для молодых, – мы же не можем дать молодильных яблочек или эликсир жизни".
В реанимации люди очень часто ведут себя неадекватно - от страха, от лекарств, которыми их пичкают. При этом, кто-то вырывает катетеры, кто-то кричит. Медперсоналу, действительно, приходится туго. Татьяна рассказала нам, как одна из медсестёр подошла к "кричащей бабушке" и надела ей на лицо кислородную маску со словами "Молчи, сука, молчи!"
На следующий день пришёл врач и тоже начал орать на эту бедную старушку...
Зафиксировать всё происходящее на пленку невозможно, - телефонов-то ни у кого нет. И камер видеонаблюдения в палатах реанимации тоже, ПОЧЕМУ-ТО, нет. Везде есть - в коридорах, обычных палатах, а в реанимации камер нет. Почему? - спрашивает пациентка.
Нам кажется, что не надо лукавить, придумывая ответ на этот вопрос. Камер нет, чтобы "в случае чего" у правоохранительных органов и родственников не было никаких доказательств неправомерных действий медперсонала. Не пускать родных в реанимацию - тоже выгодно, хотя кого-то пускают, как следует из рассказа Татьяны о "мальчике" в её палате.
"С тобой могут сделать что угодно, но связи нет, и ты ничего не можешь делать. Я считаю, что я в этой реанимации сама спасла себя от смерти. Там всех привязывают к кровати: руки, ноги. У меня была привязана только одна рука. У меня астма, инвалидность 3-ей группы, а мне поставили капельницу с глюкозой. Я посмотрела на часы – через 5 минут начинаю задыхаться. Начала звать на помощь, потом сорвала капельницу, и слава Богу! Через час пришла медсестра. Я прошу, чтобы позвали доктора. "Он занят! Из-за глюкозы ты бы не задохнулась, не смеши!" Они все обращаются к тебе, почему-то, на "ты"... Потом пришёл доктор, сообщил медсестре, что «не все астматики переносят глюкозу», медсестра оправдалась тем, ЧТО НЕ ЗНАЛА, что у меня астма...", - вспоминает Татьяна.
Надо заметить, что далеко не весь медперсонал в реанимации № 35 Боткинской больницы ведёт себя одинаково. Татьяна рассказала нам про молодого медбрата, который выполнял все просьбы больных, следил за своим внешним видом и даже внешнем видом пациентов.
Однако, общая практика, по словам нашей собеседницы, далека от регулярного использования одноразовых перчаток при проведении процедур, медицинские шапочки медсёстры надевают только перед обходом врачей, лекарства и еду дают не по графику...
В приватных разговорах с Татьяной многие сотрудники реанимационного отделения говорили, что... НЕНАВИДЯТ СВОЮ РАБОТУ, что не знают, куда идти работать, потому что взяли кредиты, ипотеки...
Но самое главное, - все как один медики признавались, что работают в реанимации, потому что... в обычных отделениях больницы "работать труднее". Другими словами, обслуживать больных, находящихся в беспомощном состоянии, всем проще!
Кстати, еще в прошлом году Минздрав России разработал памятку для родственников, посещающих пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Информационно-методическое письмо было направлено в регионы с пометкой "для неукоснительного исполнения".
Памятка эта разработана во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам "Прямой линии", состоявшейся 14 апреля 2016 года.
Однако родственников до сих пор не пускают в реанимацию. Теперь понятно - почему.
Кстати
Редакция "НИ" с нетерпением ждет официальных ответов от Департамента здравоохранения Москвы и руководства Боткинской больницы: почему не исполняются поручения Президента? И когда в наших реанимациях будет открыт доступ родственников? И установят ли там камеры видеофиксации? (во многих детских садах они уже есть - и никто не жалуется).
01 / 08 2014 08:08 Республика Коми 0Реанимация – это место, где ты еще жив, а тебя уже как бы нет
Пишет мой коллега из Перми, наш земляк из Сыктывкара. Цитирую пост в facebook (
/Публикую, потому что есть уверенность, что в любом другом месте нашей родины ситуация нисколько не отличается. Если есть на сайте врачи, то прокомментируйте, пожалуйста. Особенно меня интересует вопрос, почему родственников не пускают в реанимацию и человек должен проводить последние минуты жизни в обществе людей, которым до него совершенно нет дела./
"Я хочу написать о злоключениях моих в системе нашего здоровьеохранения . У меня 30 июня 2014 года случился инсульт…………………….,ну случился и случился, и я сам пришел в больницу № 4 на Каманина, 6. Здесь сказали, что инсульта на томограмме нет и я собрался домой, но ночью стало хуже. Стала неметь рука и нога …но второй раз меня принимать уже не хотели,сказали,что у меня нет совести…
Потом все же взяли …но куда…в реанимацию, и сказали, что у них все проходят через реанимацию, раздевают до гола и никаких прав. Для простого человека реанимация -это место,где ты еще жив,а тебя уже как бы нет,есть только тело и к твоему телу врачи и остальные «демоны» аппеллируют. Ты конечно же можешь что то говорить, что то просить,но тебя как будто не слышат…они тебя воспринимают как еще говорящее тело, но реально смотрят на тебя как на психа,и не дай бог тебе чего то потребовать и качать права, все, тебя накачают антидепрессантами,привяжут,и будут дальше наблюдать…
А когда меня раздевали, врач Антон Палыч с ухмылкой палача сказал, что он положит меня теперь по полной программе. Тогда я еще не знал, что такое лежать в реанимации неделю просто так,потому,что врачи перестраховываются. Им удобнее меня там держать,а для меня это было чистилище.
Когда ты оправляешь свои нужды при всех и видишь ухмылки некоторых, ты понимаешь, что-то не так у вас здесь…
В больнице руке и ноге становилось хуже,а я по наивности думал, что так и надо, и каждый день меня не переводили и не переводили. Я уже хотел сбежать оттуда,но разве оттуда сбежишь…
Алексей Анатольевич поддерживал меня, это заведующий реанимацией, и даже жену пустил на 5 сутки.
А госпожа Генералова придумывала все новые и новые анализы,и даже пригрозила Алексею Анатольевичу, чтобы он меня не переводил в отделение. Это было похоже на кошмарный сон, но это была явь и что делать я не понимал…
Меня обтирали камфорным спиртом, вокруг умирали люди, хрипели, орали, там я или спал или не спал я не помню…И я подумал, до врачей и не доходит каково мне тут, а скорее всего им все равно. Врачи это люди с атрофией души, без всяких там сантиментов. Это издержки профессии.
Но мне то что до того.
Ко мне все время приставали санитарки, чтоб что-то со мной сделать, я иногда отбивался, иногда нет. Если в реанимацию и попадать, то без сознания, тогда все происходящее будет адекватно положению дел.
Это было все равно, что пару дней полечиться в морге среди трупов.
На седьмой день меня перевели в палату на 6 этаже, жена принесла,телефон и одежду, и я выдохнул с облегчением. Однако у меня разыгралась страшная аллергия от долгого пребывания катетера в моей вене, и меня опять не спрашивая вкатили два укола димедрола …это был день кошмарного сна, то же своеобразная пытка. Врачи очень неохотно говорят о том,что они тебе дают или вкалывают,а я бы хотел это знать. Это нормально!
Вообще хамство в больнице это разменная монета, и больница это кривое отражение нашего общества, людей плюющих друг на друга.Там это очень тонко чувствуешь.
Тонко и болезненно. Сталин не умер - он в нас крепко сидит.
Настало время выписки, и я пытался попасть в реабилитационный центр на Фрунзе. Я узнал,что больше шансов восстановиться сразу после больницы, но меня культурно послали,и опять «кабы чего не вышло». Боятся брать на себя ответственность и восстанавливать 44 летнего меня. Они говорят: у вас сопутствующие заболевания…и поэтому я должен оставаться как есть…
Здравоохранение чтобы,сохранять, а получается наоборот. Моя жена ходила к главврачу сосудистого центра и просила положенный санаторий….там сказали,что еще рано,и что они сменили партнерский санаторий и еще какие то причины, в общем послали культурно. Все …теперь что делать непонятно.
Фото с сайта pmd74.ru
Скажу, как врач
Рассказ Татьяны Листовой, опубликованный в «Новых Известиях» под броской шапкой , действительно впечатляет. В нем реализуются все страхи, которые преследуют каждого, кто задумывается о возможности пребывания в реанимации: тут и просто злобные медсестры и врачи, ненавидящие свою работу; и медсестры-убийцы, вкалывающие не то лекарство; и лежащие голыми пациенты; и кричащие больные с разными болезнями… Ну, вот, разве, что на органы никого не потрошили, а так – Ужас! Ужас! Ужас!, как говорится в известном анекдоте.
Конечно, можно вспомнить, что именно в Боткинской больнице пациенты с инсультами лежат отдельно от других. Т.е., например, шизофреник в это отделение попасть в принципе может – у них тоже инсульты бывают, и больная с сосудистой деменцией на фоне дисциркуляторной энцефалопатии (та самая «кричащая старушка»), но вот парень после ДТП – вряд ли. И то, что парень в сознании, но молчит – возможно, что у него не чисто моторная, а сенсомоторная афазия, и слова врача о своей малоперспективности он все равно не понимает.
Да и транзиторная ишемическая атака, которая была у Татьяны – это не безобидное состояние, а то, что раньше называли «микроинсультом». Т.е. такое нарушение мозгового кровообращения, которое быстро восстановилось на фоне лечения (у этих самых врачей-убийц, кстати), но очень часто меняет психику – например, пациент замечает только плохое и бывает постоянно раздраженным…
Однако обсуждение текста показало, что люди реально видели подобное во многих реанимациях.
Пусть не везде в таком количестве, но многое – да, встречается, и вовсе «не кое-где у нас порой», а очень часто. Поэтому, неплохо бы разобраться – что же на самом деле творится за закрытыми дверями отделений реанимации.
Почему «все голые»

Итак, первое, что есть на самом деле, – в реанимации лежат люди голые и, в большинстве случаев, без разделения на мужчин и женщин. И это не только в России – так везде. Почему голые – думал сначала, и объяснять не надо. Оказалось, не всем понятно, объясняю: ряд пациентов имеет различные швы, стомы, раны, катетеры и дренажи и т.д., и одежда будет мешать проводить манипуляции с ними, а в каких-то случаях — и быть рассадником инфекции (на ней будут скапливаться выделения). Кроме того, если понадобится проводить срочные реанимационные мероприятия – одежда будет мешать, а снимать ее некогда. Поэтому – простыни, которые, конечно, не должны быть на полу.
А вот нахождение в палатах лиц обоего пола вместе связано уже с другим. Реанимация – отделение не плановое, а экстренное; поступления туда достаточно спонтанны, а количество коек ограничено.
И если мы в стандартном 12-коечном отделении разделим палаты пополам, то вполне может быть, что поступит 11 мужчин и 1 женщина. И как быть?
А в обычных (не ведомственных и не коммерческих учреждениях – да в той же Боткинской, к примеру) может быть и так: 12 мужчин и 8 женщин – отделения у нас почти официально работают с 80% перегрузом. А бывает, что и со 120%…
Конечно, в отделениях типа кардиореанимации, где основная масса больных нуждаются не столько в реанимационном лечении, сколько в наблюдении, если отделение сравнительно новое и имеет много палат, то мужчин и женщин стараются разместить раздельно. Но – увы! Такая возможность есть не везде и не всегда.
Раньше широко применялись ширмы, однако из-за того, что количество аппаратуры на одного больного возросло, а количество больных, поступающих в реанимацию, возросло также (например, в годы моей молодости пациентов с инсультом обычно в реанимацию не помещали, а теперь помещают на 6 часов практически всех), то ширмы поставить просто некуда – они будут мешать персоналу и перемещаться, и наблюдать за больными.
Почему медики «рявкают»

Второе – человеческий фактор. Да, персонал в отделениях реанимации не пушистые зайки. Это люди, которые работают в самой тяжелой области медицины – и с самыми тяжелыми (не только по характеру заболевания, но и физически) больными, и постоянно видят смерть (а это бесследно не проходит – человек нуждается в психологической защите), причем работают за небольшую зарплату.
Конечно, больница на больницу не приходится, но медсестра – ассистент стоматолога в коммерческом кабинете (в обязанности которой входит подай-принеси-вымой) получает больше медсестры реанимации.
При этом я не верю Татьяне Листовой, что персонал рассказывал ей (инсультной больной), как они свою работу ненавидят. Я больше 30 лет работаю реаниматологом, но таких встречал единицы. Вот устают очень – это да.
Вопрос о мобильных телефонах и прочих гаджетах встает всегда, но в большинстве отделений их держать не разрешают.
И не только потому, что можно сделать видео, хотя и это тоже – не каждый будет рад, когда сосед выложит в ютуб, как ему ставили клизму.
А еще и потому, что в процессе перемещения пациента все может потеряться (и ценности тоже, поэтому лучше не пытаться их в реанимацию пронести). А кроме того, и у самого пациента может быть временное расстройство психики, и он, к примеру, съест свой телефон. Так что, в первую очередь, это забота о пациентах.
Безусловно, среди медиков есть и хамы, и недобросовестные работники, и просто дураки – но они есть в любой специальности.
Однако, конечно, основная проблема реанимационных отделений – это штат и зарплата.
На Западе (в разных странах по разному, но тенденция именно такая) на каждого больного в отделении реанимации приходится одна-две собственно палатные сестры, плюс старшая сестра смены, плюс различные узкие специалисты со средним образованием (респираторный техник, массажист постурального дренажа и т.д.) плюс специалист по уходу (по нашему санитарка), плюс санитары-носильщики, плюс уборщик помещений..
А у нас даже по действующему приказу — 1 сестра на 3 больных (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 919н “Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология”, уменьшающий нагрузку на сестру до двух пациентов так и не вступил в силу), а в реальности – нагрузка намного больше. Зарплата же, которая и так невысока, от нагрузки практически не зависит. Вот и срываются медсестры и врачи. Это плохо. Но, к сожалению, это спровоцировано нашей системой здравоохранения.
Как же быть пациенту и его родственникам?

Сейчас существует распоряжение Минздрава о допуске родственников в реанимацию. В Москве, под руководством Главного анестезиолога-реаниматолога города Д.Н. Проценко, отделения реанимации становятся все более «пациентоориентированными», хотя, конечно, в разных больницах этот процесс идет по-разному.
И, безусловно, родственникам следует постараться наладить контакт и с медсестрами, и с врачами, и с заведующим отделением.
Главное, чтобы персонал понял, что пациент нужен своим близким — хоть ему 100 лет исполнилось.
Необходимо, конечно, ставить вопросы перед органами власти об увеличении ассигнований на здравоохранение, уменьшении нагрузки на персонал и повышении зарплаты медикам – тогда и спрос будет выше.
Добавлю, как священник

Иеромонах Феодорит Сеньчуков, врач-реаниматолог. Фото с сайта pmd74.ru
Ну, а главное, о чем не следует забывать – это о помощи Божией. И сами пациенты, и их родственники должны с молитвой обращать к Господу, не забывать о спасительных Таинствах – тогда и неизбежные тяготы пребывания в реанимации будут переноситься гораздо легче.
Вячеслав Афончиков руководит известным клиническим центром анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Ежедневно в этот центр привозят около двухсот больных, причем в самом тяжелом состоянии. Привозят со всего Петербурга, а еще из Ленобласти, с Северо-Запада и со всей страны. С каждым годом все меньше больных умирает — летальность в отделении реанимации не превышает 20 процентов. Руководитель центра рассказал , каково это — ежедневно спасать жизни и видит ли умирающий человек “свет в конце тоннеля”.
О профессиональном становлении
– Наш курс в мединституте был первым, кому отменили распределение . Казалось бы, вот она, свобода, – устраивайся куда хочешь. А мы носились по городу с высунутыми языками в поисках работы, и нас никуда не брали. Врачи вдруг стали никому не нужны. Поэтому я ухватился за первую попавшуюся вакансию – реаниматолога в НИИ им Джанелидзе. И сегодня ни капельки не жалею.
– Меня всегда впечатлял жизненный путь космонавта Георгия Берегового. Он начинал летать перед войной на фанерном биплане По-2, а всего через какие-то 30 лет совершил полет в космос на «Союзе-3». Так вот при мне в реаниматологии за 25 лет произошел примерно такой же прорыв. В 1990-е годы аппарат искусственной вентиляции легких имел всего две ручки и два индикатора, один показывал давление, другой – поток кислорода. А сегодня пульт управления такого аппарата сравним с кабиной истребителя: 10 – 15 ручек, а на дисплей выводятся 60 – 80 показателей. Примерно такая же разница, как между По-2 и «Союзом-3».
– Врач-реаниматолог – как пилот, он одновременно отслеживает 6-8 таких аппаратов. Раньше многие поражения легких считались почти фатальным диагнозом. Если больному требовалось больше трех суток искусственного дыхания, то старые аппараты не позволяли так долго его обеспечивать без серьезных осложнений. А сегодня некоторые пациенты находятся на искусственной вентиляции больше месяца, и при этом нам удается сохранить их легкие. Сейчас уже появились интеллектуальные системы, которые сами анализируют состояние человека и подбирают нужный режим доставки в организм кислорода и выведения углекислоты.
– В 1990-е инсульт был приговором. Если после него человек вообще выживал, то становился глубоким инвалидом. А сейчас сотни больных от нас уходят на своих ногах. Современные технологии диагностики и лечения, если успеть вовремя их применить, позволяют восстановить мозговое кровообращение до того, как значительная часть мозга инсультника умрет, и во многих случаях человеку инвалидизация даже не грозит.
– В медицине происходят столь стремительные перемены, что их порой трудно осмыслить. Например, читаешь воспоминания очевидцев о том, как в 1953 году умирал Сталин, и у тебя подсознательно возникает желание вмешаться, сказать докторам, чтобы срочно интубировали больного, подключили аппарат искусственного дыхания, сделали томограмму… А если шагнем в историю медицины еще на 50 лет назад, то из Карманного справочника врача 1900 года узнаем, что пострадавшего от удара молнии нужно обкладывать сырой землей… Медицина сегодня добилась впечатляющих успехов, но при этом я уверен: потомки будут смеяться над нами так же, как мы сегодня смеемся над учебником Вершинина.
О том, где работать труднее всего
— Трудно работать там, где выше летальность. А это тяжелый сепсис и ожоги. Раньше сепсис назывался заражением крови. Но сегодня под это понятие подпадает не только инфекция, но и дефекты иммунитета человека. Мы, врачи, тоже ведь контактируем с микробами, которыми болеют наши пациенты, но в отличие от них не заболеваем. Потому что у них в организме произошла какая-то катастрофа. Очагом воспаления может стать перфорированный желудок, воспалившаяся поджелудочная железа или даже содранная заусеница на пальце. Но человек уже не жалуется на больное место, с которого все началось. Воспаление захватывает не локальный участок, а весь организм. Мы собираем этих больных со всего города. А с ожогами к нам эвакуируют пострадавших со всего Северо-Запада – из Пскова, Новгорода, Мурманска.
— Когда был пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми, массово везли и оттуда. Наш ожоговый центр очень хорошо оснащен. Например, для пациентов с обожженной спиной установлены такие кровати, где они как бы плавают в невесомости – в специальном мелкодисперсном песке, продуваемом воздухом… Но психологически там тяжело работать. Привозят больного, у которого поражено 80 процентов кожи. Он с тобой разговаривает. У него ничего не болит (поскольку все, что могло болеть, уже сгорело). А ты знаешь, что его уже не спасти и через 48 часов этот человек точно умрет.
– Еще пять лет назад мы принимали около 60 тысяч человек в год , сегодня около 70 тысяч. Пустых коек почти не бывает, наоборот, часто дополнительные разворачиваем. И поток нарастает. Но причин тому несколько. Первая – увеличивается население Петербурга. Нам отсюда, из реанимации, видится, что оно вместе с приезжими студентами и мигрантами уже достигло 7,5-8 миллионов человек. Вторая причина – заметно ухудшилась работа поликлиник. Раньше в советских медвузах студентам на экзаменах могли задать вопрос на засыпку: «Кто является ключевым звеном здравоохранения?» В наши дни многие скажут: «Минздрав». Но правильный ответ – «участковый врач». Вся советская система здравоохранения была построена от него. И сегодня как минимум половине из 70 тысяч наших пациентов могли оказать помощь в поликлиниках – кому-то живот посмотреть, кому-то рентген сделать. И тогда мы бы смогли уделить в полтора раза больше времени другим, реально тяжелым больным.
– На 108 реанимационных коек у нас приходится 90 врачей и 160 медсестер. Много это или мало? Если вдруг попытаться привести наш штат к нормам, рекомендованным приказом Минздрава, то придется набрать еще 426 человек. Их даже разместить и переодеть будет негде. На одну ставку у нас никто не работает, в основном на полторы. Больше нельзя по закону. Есть старый анекдот, объясняющий, почему в медицине все работают именно на полторы ставки: потому что на одну есть нечего, а на две некогда.
Вытрезвитель имени Джанелидзе
– Эта публика, как ни крути, требует расходов. Жизни пьяного, привезенного к нам по скорой, ничто зачастую не угрожает, ему нужно просто проспаться. Но мы должны его обследовать: одному сделать анализ крови, другому – рентген (вдруг у него какие-то скрытые травмы?). Тратим время еще и на них при нашем потоке, когда каждая минута врача реанимации – на вес золота. Один пьяный буйный больной может поставить на уши все приемное отделение. Сейчас мы специально держим для них отдельный врачебный пост. И отвлекаем ресурсы от других пациентов. Ведь к нам в токсикологический центр поступают люди с тяжелыми отравлениями. С укусами экзотических змей, которых народ держит у себя в квартирах. С ожогами медуз, полученными где-нибудь на Мальдивах. И, конечно, с передозировкой наркотиками. Причем наркотики же все время обновляются, умельцы постоянно меняют их структурные формулы, на расшифровку которых у специалистов из нашей токсико-химической лаборатории иногда годы уходят.
Чудеса в реанимации
– В годы моей юности многие шли в нее проявлять героизм. Но здесь, как и в армии никакого подвига быть не должно. Потому что подвиг одного человека – это всегда следствие просчета другого. Я преподаю и по своему опыту знаю – из 8 студентов, которые приходят на кафедру учиться на анестизиолога-реаниматолога, 2-3 неизбежно отсеются, потому что эта профессия не для них. В ней должна быть голова на плечах. Но не только. Очень умные и толковые врачи от нас уходили, потому что были «свободными художниками». А здесь требуется суровая внутренняя дисциплина. Коллеги, которые наблюдали со стороны, как мы работаем с вновь привезенным больным, были поражены: «Ты ничего не сказал, только руку поднял, а медсестра тебе уже в нее что-то вкладывает». На этой работе в сутках не 24 часа, а 1440 минут. Счет идет именно на минуты, а значит, очень важна слаженность действий. Это командный вид человеческой деятельности.

— Габариты – это вторично . Некоторые медсестры помнят, каким худым я пришел в нашу клинику в 1992 году – мог прятаться за капельницей. Но когда ты день за днем находишься в постоянном стрессе, хочется его заесть. В процессе еды выделяются эндорфины и мозг успокаивается. Так что габариты многие себе здесь наедают. Мне на этой работе еще и пришлось закурить. Сигарета создает дурацкую иллюзию отвлечения от проблем.
– Интуиция – божий дар и бесовский соблазн для молодежи. Иногда со стороны может показаться, что опытный врач работает интуитивно. Мгновенно принимает решения в зависимости от той или иной ситуации. А спросишь его, он даже может затрудниться объяснить, почему поступил именно так. Но на самом деле человек просто много учился, много практиковался и дошел до того, что у него профессиональная реакция уже превратилась в рефлекс. Это никакое не чудо, не божий дар, а приобретенный навык, за который заплачено тяжелым трудом. Я вообще не люблю всяких неправильных определений нашей работы. Как пафосных – «спасаем жизни», так и официозных – «оказываем медицинские услуги» (эту фразу очень любят медицинские чиновники). Я за то, чтобы вернуть в лексикон врача нормальное человеческое слово «лечить».
– Никаких черных труб и полетов в пространстве. Мне приходилось об этом только читать. Есть одно обстоятельство, которое, на мой взгляд, объясняет такие рассказы. И вот с ним мы в реанимации встречаемся постоянно. Наша память не терпит пустоты. Если человека, допустим, стукнули по голове в понедельник, а очнулся он только в четверг, то, конечно, не помнит, что происходило с ним во вторник и среду. Эта пустота очень тягостна, она мучает человека. И мозг начинает заполнять ее придуманными воспоминаниями. Так устроено наше сознание. Эти выдуманные истории называются конфобуляцией.

– Ложные воспоминания, например, бывают у алкоголиков. Выйдя из запоя, они начинают рассказывать, как вчера ходили с друзьями на рыбалку. Убеждают в этом себя, а потом окружающих. Так и многие наши выжившие пациенты потом делятся всякими небылицами о своем пребывании в реанимации, в которые сами искренне верят. Все-таки человеку страшно здесь находиться. И чтобы эта негативная информация не мучила их всю жизнь, она стирается из их памяти и заменяется другой, более позитивной. Я допускаю, что у людей, свидетельства которых собрал в своей известной книге Реймонд Моуди в подсознании уже сидели все эти тоннели. Возможно, им в детстве говорили что-то подобное о путешествии в загробный мир, и сознание заполнило именно этой информацией дыру в памяти. А поскольку наши соотечественники в основной своей массе атеисты, то ничего и не рассказывают. Кстати, у нас в институте работает доктор, который трижды побывал в состоянии клинической смерти. И тоже не видел ничего подобного.
– Наша профессия не может служить доказательством бытия божьего. Но если реаниматолог со стажем более пяти лет говорит вам, что в Бога не верит, он либо дурак, либо врет. Порой у нас все-таки происходит что-то неординарное. И не случайно в каждом отделении есть свои приметы. Например, нельзя присаживаться на реанимационную койку. Нельзя брить больного. Потому что бывали совершенно необъяснимые случаи – пациента собирались выписывать, родственники приносили бритву, чтобы тот перед выходом на волю привел себя в порядок. Он брился и вместо выписки на следующий день вдруг умирал. И когда такое случается раза три, на четвертый ты уже родственников с бритвой отправляешь подальше. Я не могу объяснить эти случаи, так же как не могу объяснить некоторые примеры выздоровления. Чтобы вылечить болезнь, надо поставить диагноз. Но иногда это не удается. Состояние пациента ухудшается, мы не знаем, что происходит. Но поскольку у нас в клинике очень интенсивная терапия, позволяющая замещать жизненно важные функции больного, то мы просто реагируем на симптомы. Потом в какой-то момент наступает перелом. Человек восстанавливается, выздоравливает, выписывается, мы провожаем его долгим вопросительным взглядом. Мы его вылечили, но неизвестно от чего.
– Иногда авторами чудес становятся родственники больного. В борьбе за своего близкого в казалось бы безнадежных ситуациях они проявляют потрясающее мужество и стойкость. Не раз бывало: пациент выжил, но стал инвалидом – у него поврежден головной мозг, глубокая кома. А через полгода он приходит ногами с букетом цветов, тортом и вопросом: «Доктор, вы меня не узнаете?». Хорошая реабилитация иногда дает потрясающие результаты, а она во многом зависит от усилий родственников. От силы их воли и любви. В прошлом году у нас был абсолютно безнадежный больной. Его отдали родственникам в состоянии комы, а через 8 месяцев те прислали нам видео, где он разговаривает и сам ест ложкой. Это чудо.
У кого больше шансов выйти из комы
– Кома – критическое состояние . До появления реанимации, люди не могли в нем долго находиться. Кома – это тяжелое поражение коры головного мозга, например, после черепно-мозговой травмы или инсульта. Согласно материалистической теории, человек – это его мозг. Умер мозг – умер и человек. Но медицина научилась даже при таком поражении поддерживать жизнь в организме. Есть определенный срок, в течение которого пациент может выйти из комы. Я считаю, что он равен 18 месяцам, особенно если речь идет о молодом человеке и тем более о ребенке. Старая поговорка о том, что нервные клетки не восстанавливаются, не совсем правильная. Новые нервные клетки образуются до 35 лет. Кроме того, мозг очень сложный компьютер. Если связи в нем оказались нарушены, их можно восстановить окольными путями – «по объездной дороге» через другие нервные клетки. Поэтому иногда многие функции можно заново запустить. Но если это не произошло за полтора года, то почти с гарантией не произойдет и в дальнейшем. Пациентов в таком вегетативном состоянии держат в специальных больницах, где им обеспечен уход – кормление через зонд, борьба с пролежнями, если нужно подача кислорода.
– Любой общий наркоз – тоже кома : мы не хотим, чтобы человек что-то чувствовал во время операции и усыпляем его. Но бывает, нам нужно ввести лечебный наркоз не на два часа, а на две недели. Для того, чтобы защитить мозг. При кровоизлиянии или мозговой травме необходимо, чтобы больной мозг имел минимальные потребности в энергии и кислороде. Это можно сравнить с накладыванием гипса при переломе. Жестко фиксируя руку, мы создаем ей комфортные условия. Первое время, пока поврежденная рука не зажила, она не должна двигаться, ей нужен покой. Точно также мы с помощью искусственной комы обеспечиваем покой поврежденному мозгу в первый острый период, который например, при черепно-мозговой травме составляет 5-15 дней.
Хроническая смерть
– Человек – довольно совершенная машина. Но как у любой машины срок его «работы» зависит от ресурса. Был немецкий патологоанатом Гёрлах. Он различал три вида смерти: быстрая, замедленная (то есть отсроченная на несколько суток под влиянием разных факторов) и хроническое умирание. Последнее понятие у других авторов редко встречается. Но я как реаниматолог, вижу, что хроническое умирание – это реальность. Например, у человека хроническая сердечная недостаточность. Его сердце с каждым днем становится все хуже и хуже, но на чуть-чуть. Есть болезни, которые не вылечить, они незаметно, медленно, но верно ведут человека к концу, и спасти его невозможно. Иногда родственники умершего пациента бывают возмущены: «Как же так? Еще неделю назад дедушка ходил по квартире, гладил внука по голове, и вдруг умер». Это случилось не вдруг – дедушка болел 20 лет. У него все это время накапливались проблемы, и в какой то момент их количество перешло в качество. Это как энергоресурс телефона. Пока у него еще есть 5 процентов зарядки, я могу по нему говорить, а потом внезапно экран гаснет. У человека тоже есть ресурс и он убывает. Если исходного ресурса много и человек вдруг угодил под троллейбус, его здоровье можно восстановить. Но если его до этого точила хроническая болезнь, то критическая ситуация, в которую он попал, грозит стать роковой. Мы можем завести его сердце, а оно через 10 минут снова встанет. Потому что у организма уже не осталось зарядки.
Как заработать на врачебных ошибках
– Разумеется, на наш институт подают иски и жалобы. В 90 процентах случаев это претензии из разряда «было плохо, мне не понравилось». А претензия к врачу должна быть конкретной – назначение не того лекарства, выполнение ошибочных действий. Но врач может неправильно лечить вовсе не потому, что делает это злонамеренно или халатно. У него может не быть оснащения. Например, больного с черепно-мозговой травмой привезли в больницу, где нет КТ. Следовательно, врач может пропустить скрытые повреждения.
– Направление непрофильного больного в необорудованный стационар – это ошибка в организации первой помощи. Нет оснащения, не хватает лекарств, занижены тарифы (нормальное полноценное лечение этой болезни стоит миллион, а за него по так называемому тарифному соглашению платят 80 тысяч) – но крайним все равно будет врач, которому не повезло дежурить в данную конкретную ночь. Так у нас принято.
– И еще очень важный вопрос: кто может оценивать ошибку врача? Если разбился самолет, в состав комиссии по расследованию летных происшествий, в числе других экспертов обязательно войдут самые опытные летчики. Они будут анализировать данные с «черного ящика». В медицине не так. По крайне мере в отечественной медицине. И мы уже столкнулись с системной проблемой – недобросовестностью экспертов, разбирающих медицинские конфликты.

– У нас как происходит. Если тяжба гражданина с клиникой выходит на уровень прокуратуры , та обращается в центральное бюро судмедэкспертизы. Сотрудник бюро, которому поручили расследование, собирает бригаду, в которую обязательно входит медик. Вот только он может не иметь отношения к рассматриваемой области медицины. Допустим, всю жизнь оперировал животы не в экстренной, а в плановой хирургии, а ему дают на рецензию историю из ожогового центра. И вот тут возникает вопрос этики. Я ни за что не возьмусь писать заключение по конфликтной ситуации, в которой не являюсь специалистом. А кто-то возьмется, потому, что за работу в такой бригаде платят деньги. Разобрал несколько случаев – получил неплохую прибавку к зарплате.
— Конкретная история: нашему анестезиологу вменили в вину осложнение , которое случилось во время операции – больной умер. А эксперт написал заключение о том, что «врач был неправ», сославшись на книгу 1974 года. Извините, но с тех пор в анестезиологии все уже десять раз поменялось. С таким же успехом можно было сослаться на упомянутый мною учебник Вершинина 1952 года, рекомендовавший вводить пациенту под кожу коньяк. Мы в итоге добились повторных экспертиз и доказали невиновность нашего врача. Но это отняло много сил и времени – эпопея длилась больше года. Во всем мире экспертов назначает профильная общественная организация врачей. Например, в Федерации анестезиологов и реаниматологов, где я состою, знают и могут порекомендовать лучших специалистов в этой области. Если разбирается конфликт, связанный с родами, то было бы логично обратиться в общественную организацию акушеров. И так далее. У нас же полный хаос в этом вопросе.
Реанимация – проходной двор?
– Минздрав принял решение пускать родственников в реанимацию после обращения Хабенского к Путину во время ежегодной прямой линии с президентом. Так что мы теперь обязаны это делать. Но хотелось бы получить от Минздрава четкие разъяснения. Родственники – это кто? Я однажды в составе комиссии Минздрава приехал в город Александров Владимирской губернии. Это было связано с программой оказания помощи жертвам ДТП. Мы проверяли все больницы на крупных трассах. Подъезжаем, а вокруг больницы горят костры. Главврач дико извинялся. Оказалось, это цыгане разбили табор, потому что в больницу попал их барон. Все они считали его своим родственником. В связи с этим вопрос: если ко мне завтра попадет такой же барон, я весь табор в реанимацию пустить должен? В 90-е годы, когда вокруг стояла стрельба, нам часто привозили раненных. А друзья-родственники приходил их охранять. Бывало, они так переживали за своего «братана», что, употребив наркотиков, засыпали в сушилке или буфетной, и забывали там свои пистолеты.
— Мы бандитов со стволами раньше не пускали в палату, а сейчас после письма из Минздрава обязаны это делать? Или другая ситуация – родственник приходит нетрезвым. Но мы ведь не можем его освидетельствовать, заставлять дышать в трубочку, проверять карманы. А он возьмет и уронит по пьяни монитор стоимостью в 3 миллиона рублей. Это очень даже запросто может случиться, потому что у нас теснота. По санитарной норме на одного больного должно приходиться 13 квадратных метров площади. Но во всех больницах, построенных до распада СССР, эта норма не соблюдена. В то же время реанимационная койка оснащена дорогостоящей аппаратурой. А если вдруг посторонний человек что-то сломает, кто будет за это платить – больница или посетитель? Или зацепит капельницу соседнего пациента, которому он ни разу не родственник, и нанесет ему вред? Юридический механизм таких ситуаций совсем не прописан. Есть лишь декларативное заявление «всех пускать». А хотелось бы четких разъяснений.
— Еще вопрос: а самого больного надо спрашивать? Может, человек против того, чтобы его видели с разрезанным животом, а волю его никак не узнать, так как он находится без сознания. Не нарушим ли мы права больного? Скажу больше: мы и раньше пускали родственников. Но в тех случаях, когда были уверены, что это пойдет на пользу больному, принесет позитивные эмоции. Но ситуации бывают разные. Может, встреча с родственниками больного только добьет. Некоторые наши пациенты даже маму с папой не хотят видеть. Я уж не говорю про потенциально конфликтные моменты, которые неизбежно будут возникать. Часто родственники, оказавшись в палате, начинают всех дергать: почему медсестра или доктор занимаются другими больными, а не моим? Или, начитавшись о болезни в Интернете, пытаются учить врача, как правильно лечить. Пока родственники за барьером, таких конфликтных коллизий не возникает. Вообще эта практика – пускать родственников к больному пришла из детских больниц. Маленьким детям очень страшно там оказаться без мамы. Но в детские больницы у нас родителей всегда и так пускали. И одно дело мама с ребенком и другое – друзья, пришедшие к наркоману с «гостинцами», после употребления которых его из обычной палаты снова везут в реанимацию с диагнозом «передозировка». Это, кстати, очень реальная ситуация в нашей повседневной работе.
— Да, на Западе везде пускают. Но там, для начала, другая система мониторинга. Там даже в кладовках, куда медсестра отлучается за лекарствами, над стеллажами висят экраны, на которые выведены показатели состояния всех больных. Давайте сперва обеспечим в наших реанимациях такой уровень мониторинга. Давайте приведем помещения в соответствие с санитарными нормами. Но это сложно, так как требует серьезных затрат. А написание приказа «всех пускать» ничего не требует. Самое ужасное, что при принятии этого решения никто даже не консультировался, ни советовался с врачебным сообществом – Федерацией анестезиологов и реаниматологов куда входят ведущие представители этой профессии со всей страны. Никого из нас вообще не спросили. А давайте я в следующий раз дозвонюсь до президента и возмущусь, почему меня не пускают на ЛАЭС или в кабину пилотов, когда я на самолете лечу? А что, я же налогоплательщик. Значит, имею право. Вся эта история – очередная иллюстрация взаимоотношений власти и профессионалов, которым еще раз указали то место, которое они занимают в социальной иерархии нашей страны.
Новые статьи
- Слайды на тему имя существительное
- Банковская система Банки формирование банковской системы презентация
- Презентация к классному часу на тему: "Женщины - космонавты" Презентация к 55 летию полета валентины терешковой
- Учитель физической культуры Дерябина Л
- Академия занимательных наук
- Презентация на тему "История числа Пи" в формате powerpoint Интересная готовая презентация магическое число пи
- Преимущества егэ перед другими формами контроля Что представляет собой единый экзамен
- Размер предельной стоимости капитального ремонта как регулятор комплексности и качества ремонтов
- Придомовая территория ТСЖ: какие объекты на ней являются общим имуществом?
- Совет многоквартирного дома должен быть создан, если… Как создать совет дома в многоквартирном доме
Популярные статьи
- Бухгалтерская отчетность контрагента: как получить информацию о контрагенте Где найти бухгалтерский баланс предприятия
- Экономическая эффективность асуп Эффективность внедрения разрабатываемой системы
- Услуги ЖКХ, сроки оплаты коммунальных услуг
- Салат с каперсами рецепт самый вкусный
- Как правильно заморозить белые грибы на зиму, лучшие рецепты приготовления Как закрутить белые грибы на зиму
- Лагман по–узбекски — рецепт и секреты приготовления вкусного блюда
- Фиброаденоматоз молочной железы - что это такое?
- Человек: систематика и характерные признаки в строении организма
- Сколько жарить грибы по времени?
- Инфицирование, современная диагностика, эффективное лечение и профилактика болезни